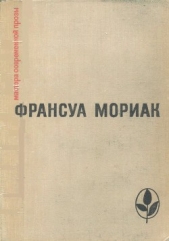He покоряться ночи... Художественная публицистика
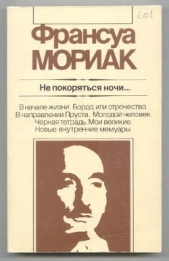
He покоряться ночи... Художественная публицистика читать книгу онлайн
В сборник публицистики Франсуа Мориака (1885—1970), подготовленный к 100-летию со дня рождения писателя, вошли его автобиографические произведения «В начале жизни», «Бордо, или Отрочество», афоризмы, дневники, знаменитая «Черная тетрадь», литературно-критические статьи.
Рекомендуется широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы удивляемся, как это мистики с самого отрочества отдавались любви к богу; на самом деле удивляться тут нечему: нашу юную требовательность может удовлетворить только бесконечно могущественное существо — ему ведомы истоки самых тайных наших мыслей, и все закоулки сердца, и та кровоточащая рана, о которой никто не знает и на которую мы сами не осмеливаемся взглянуть.
Бывает, что современные молодые люди, отнюдь не страдая от внутреннего разлада, мучающего «сыновей века», отдаются без сопротивления водовороту собственных противоречий. Отчаявшись нащупать твердую почву, они уговаривают себя, что множественность — это и есть свойство их натуры. Их единственный закон — повиноваться своим побуждениям и не препятствовать им ни в чем. Они полагают, что даже мораль, и уж тем более логика, деформирует их личность. Можно подумать, что подсознание для них — это божество, в руки которого они предаются, словно бездыханные тела; они ищут ответа на вопросы у собственных сновидений и грез, словно видя в них оракулов этого тайного божества. Они простодушно чванятся тем, что истово следуют противоречивым велениям божества; они — бродячий хаос и сами себя воспринимают как хаос.
Но с какой стати, возразит читатель, придавать значение чудачествам нескольких сумасбродов? Дело в том, что эти сумасброды — писатели и художники; не думайте, что они сами изобрели этот очевидный парадокс, превратившийся у них в целое учение. Этот поток питается множеством могучих источников, имя которым Рембо, Достоевский, Фрейд, Жид, Пруст. Бесспорно, это литература для немногих; но не верьте, что герметичное искусство не оказывает влияния на публику. Следы его проникновения попадаются нам в самых далеких от литературы кругах. Множество нынешних молодых людей, вполне равнодушных к книгам, все же исповедуют убеждение, что основной наш долг — не препятствовать развитию инстинктов. Свою неорганизованность они оправдывают тем, что обязаны быть искренними и не подавлять в себе ничего — даже самого худшего.
Как опасна любовь этих юношей, для которых вожделение, влюбленность, ненависть, безразличие не более чем разные этикетки для обозначения приливов и отливов одной и той же переполняющей их мутной воды. Они изгнали абсолют из страны Нежности, начертанной нашими отцами, которые были искушены в науке любви *. То, что когда-то называлось любовью, по мнению нынешних юнцов, находится дальше от действительности, чем сады Версаля от дикой природы. Молодые женщины твердо знают, что теперь уже не следует полагаться на эту старинную игру с очаровательными правилами: измена перестала быть изменой; верность оказывается словом, лишенным смысла, потому что в любви не осталось ничего постоянного. Поразмыслите хотя бы над названием одной из глав у Пруста: «Перебои сердца».
Слепы те, кто не видит, что отмена вековых законов, правивших любовью, распространяется далеко за пределы кружка эстетов.
То, что еще не так давно называлось любовью, было сложным, изощренным чувством; его творили поколения утонченных людей; оно было соткано из жертвенности, самоотречения, угрызений совести и героизма. Его подкрепляли и религия, и христианская мораль. Чтобы собрать эти прекрасные воды, полные небесной синевы, в дело шли плотины католических добродетелей. Любовь была рождена стойкостью добродетельных и искушаемых женщин вроде расиновских принцесс, приносимых в жертву по велению богов или во имя блага государства *.
Любовь не может выстоять, когда размываются подпиравшие ее плотины.
Под натиском армии молодых людей, бунтующих против правил любовной игры, женщины теряют голову, и, словно по обычаям династии Меровингов, остриженные волосы становятся у них символом отречения от власти. Даже дамы из хорошего общества, стриженые, в не прикрывающих колени платьях, надетых прямо на голое тело, выглядят иногда точь-в-точь как те небьющиеся размалеванные куклы, что поджидают в порту матросов, возвращающихся из плавания. А эти юноши, которые уцелели в четырехлетней буре, — ну чем не матросы, вернувшиеся из страны смерти? Надышавшись ее воздухом, они принесли с собой на родину неутолимую жажду, а в придачу еще и жестокость, и дикарскую нечувствительность к гримасам страсти.
Тот, кто на своей шкуре познал значение слов «рана», «страдание», «пытка», «язва», не спешит обогащать ими лексикон любви.
Когда у тебя на глазах, рядом с тобой, истекали кровью, агонизировали, умирали твои юные собратья, да и сам ты сотни раз мог погибнуть, испытываешь отвращение, слыша: «От любви смерть мне сулят, прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза» 1. Люди, которые не перестают курить и смеяться среди трупов своих братьев, не могут согласиться с тем, что «всю жизнь любовное мученье длится» *.
1 Ж.-Б. Мольер. Мещанин во дворянстве. М., «Искусство», 1964, с. 25. (Пер. Н. Любимова.)
XIV
Не надейтесь, что ваши сыновья доверятся вам по собственному почину. И Адам, согрешив, скрывался от ока Иеговы; провинившийся сын первым делом думает, как бы спрятаться от отца. Родители бывают единственными, кто не видит болезни, гложущей их. сына, между тем как целый свет с любопытством подмечает ее разрушительные симптомы.
Между отцами и детьми высится стена робости, стыда, непонимания, уязвленной нежности. Чтобы эта стена не выросла, требуются усилия, на которые еле хватает человеческой жизни. Но дети родятся у нас в ту пору, когда мы еще, переполнены собой, сжигаемы честолюбием и от детей просим не столько доверия, сколько покоя.
Отцов отделяют от детей их собственные страсти.
Если ты помнишь о своих грехах, в чем ты смеешь упрекать своего сына?
Наш удел — не принимать всерьез страсти, владеющие нашими сыновьями, страсти, которые в свое время мы не сумели победить в самих себе. Сколько отцов помнят, как они возмущались отцовской тиранией! Они равнодушно сносят сыновнюю беспорядочность, и это значит, что в глубине души они отрекаются от власти, считают себя не вправе судить и выносить приговор. Эта юная плоть от их плоти получила в наследство бремя склонностей и навязчивых идей, и этим бременем придавили ее сами родители.
Многим отцам знакомо смутное сознание того, что нельзя лишать молодежь удовольствия, по которому тоскуешь сам. Те, кто в отрочестве держался строгих правил, нередко опасаются навязывать сыновьям самоотверженность, о которой сами жалеют, достигнув зрелых лет: быть может, это и есть тягчайшее искушение зрелости — жалеть о том, что мог согрешить, но не согрешил? Опаснее всего, если в наставники подросткам попадет человек целомудренный, но усомнившийся в ценности целомудрия; менее пагубно было бы для них общение с развратником, который пресытился развратом.
В старости, когда отрешившись от всего остального, мы вглядываемся в наших детей, нам открывается, что «это — единственная мечта, которая не развеялась...», и мы бы не прочь наконец добиться аудиенции у этих обожаемых чужестранцев, которых сами произвели на свет и которые у нас на глазах плутают в тех же джунглях, где когда-то заблудились и мы. Но нам ничего не известно о сыне, который доверяется первому попавшемуся приятелю.
Слишком часто родители, не располагая доверием сына, воображают, будто делают для него все возможное, когда окружают юнца, достигшего «опасного возраста», всевозможными преградами и формальными запретами. Но жесткие правила и надзор за детьми, принятые в почтенных семьях, оправдываются только на прирожденных тихонях, которым и так не грозит никакая лихорадка. Остальные быстро вырываются на волю. Юная страсть разрывает цепи, проходит сквозь стены, усыпляет стражу. Чем крепче связывают этих хитрых ангелов, тем больше у них прибывает силы.
Юной душе нечего надеяться на помощь извне. Спасение заключено в ней самой.
Среди заметок, сделанных мною на двадцатом году жизни, мне попались слова Барреса, подчеркнутые красным: «...хотелось властвовать над жизнью — до дрожи, так, что сами собой сжимались кулаки...» Если тебе нужно спасти молодого человека — улови в нем эту дрожь. Открой ему, что властвовать над жизнью невозможно, пока не научишься властвовать над самим собой; ведь властью обладает только тот, кто существует, а мы не существуем: мы сами себя создаем. Многие отказываются от любого вмешательства в их жизнь, оберегая свое «я» от искажения; им хотелось бы остаться собственными свидетелями, все понимать, но при этом бездействовать: эти юноши знают о себе еще меньше, чем знают о них окружающие. Как же им найти себя, если их попросту нет? Откроем молодому человеку, что он появился на свет в виде хаоса, и наша жизнь — это игра, заключающаяся в том, чтобы родиться из этого хаоса вторично.
![Том 1 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)