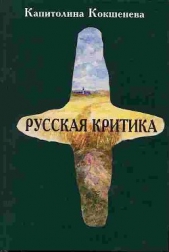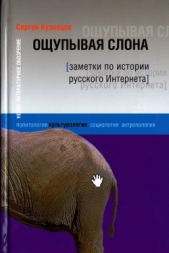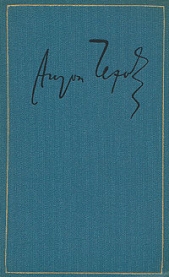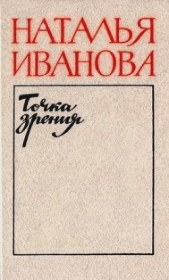Вместо жизни

Вместо жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К этой истории о любви и предательстве Катаев возвращался трижды, об этом написаны сегодня интересные исследовательские работы. Думаю, возвращение его к теме было обусловлено не только тем, что сам он был арестован в Одессе и чудом избежал расстрела; это к нему, а не к герою рассказа «Отец» Петру Синайскому, приходил на свидания несчастный, униженный, плачущий отец, любимый добрый папа из «Паруса» и «Хуторка в степи»; это он, Катаев, замирал у дверей камеры в третьей танцевальной позиции, почему-то веря, что это его спасет. Таких описаний страха смерти, какое есть в «Отце», немного в русской литературе. Но возвращение к теме объяснялось, конечно, не только этой травмой,- а тем, что тут опять сходились две катаевские темы. Невыносимая, острее не бывает, любовь к девушке из совпартшколы – и ужас смерти, являющейся ниоткуда, караулящей за любым углом. Вот еще одного катаевского альтер эго, поэта Рюрика Пчелкина, ловит в степи непонятно откуда взявшаяся банда; он чудом избегает расстрела (при нем документ от одесского ревкома, удостоверение лектора-просветителя) – но даже и в этот миг, когда он бежит от толстого мужика, смеха ради палящего ему вслед, в голове его возникают стихи Николая Бурлюка:
«Тихим вздохом, легким шагом, через сумрак смутных дней по лугам и по оврагам бедной Родины моей, по глухим ее лесам, по непаханым полям каждый вечер бродит кто-то, утомленный и больной, в голубых глазах дремота веет вещей теплотой… И в плаще ночей высоком плещет, плещет на реке, оставляя ненароком след копыта на песке»…
Гениально.
Он был истинно революционным художником и не лгал, называя себя сыном революции – в том смысле, конечно, что только революция позволила ему испытать это небывалое соседство любви и смерти. Больше того: он был самым революционным писателем России, потому что в революции, кроме любви и смерти, ничего интересного нет. Есть декреты, социальный взрыв, суконный новояз, бурное взаимное уничтожение красных и белых на почве тотального разочарования в социальном переустройстве (это может называться террором, а может – Гражданской войной), но для художника это все, в общем, непродуктивно. Вот почему ранний Маяковский более революционен, чем вся его «Мистерия-буфф». Где столкновение любви и смерти, юношеской мучительной жажды и неотвратимой железной машины (тень цистерны) – там литература, и об этом весь настоящий Катаев. Трепет жизни на грани уничтожения, трепет лиственной тени на слепяще-яркой белой стене одесского полдня.
Такую тоску по уходящей жизни способен испытывать только атеист. У верующих есть система утешений, более или менее действенных,- вот почему изобразительная сила Толстого, звериная сила обреченного, куда-то девается в его проповеднических вещах. Когда описывает, он знает, что конечен,- иначе откуда бы такая острота? Я исчезну, мир останется. Когда проповедует, он надеется, что воскреснет, что никуда не денется… как знать, вдруг есть хоть какой-то шанс? Но голодная цепкость глаза – дар обреченных; Бунин мог сколько угодно восхищаться Божиим величием – художник, он понимал и ценил другого художника; но в бессмертие уверовать не мог никак. Какое бессмертие, когда такие яркие краски, такой зной, такая абсолютная, исчерпывающая полнота бытия в минуты сильной любви и столь же полного, совершенного отдыха? Какое бессмертие, когда такой блеск моря, шелест и запах акаций, белая чесучовая толпа, немыслимая небесная синь, какая может быть вечная жизнь, когда за всем этим блеском черной подкладкой стоит такая несомненная, такая явная смерть?
Конечно, он был южанин. Южанин настоящий, морской, одесский, хитрый и жовиальный, но без вечной еврейской уязвленности – и одновременно без еврейского чувства причастности к какой-то великой спасительной общности, без той причастности, которая позволяла Бабелю, вечному чужаку в Конармии, в любом местечке немедленно почувствовать себя своим. Отсюда и бабелевская раздвоенность – входя в эти местечки как конармеец, иногда вынужденно участвуя в боях и грабежах, он был и жителем их, жертвой боев и грабежей; в этом исток неповторимой интонации «Конармии» – интонации жертвы и мстителя; это ведь книга покаянная. У Катаева этого не было. Жадность к жизни, страстность, темперамент – и сладкое чувство, что нечего терять.
Я завидую жителям приморских городов. У них своя метафизика. Соседство моря придает их жизни особую хрупкость – на них как бы всегда что-то надвигается,- и одновременно вечность: рядом с ними всегда есть что-то, чего не отменишь. Хрупкая вечность. Вот это и будет Катаев.
Ай да формула, ай да я! Он очень любил такие автокомментарии отдельной строкой.
Думаю, именно эта предельная субъективность, живая разговорность его прозы и придавала обаяние всем этим сложным, хрупким конструкциям, многословным описаниям, длинным придаточным предложениям, которые, помню, мы разбирали на журфаке на уроках любимой Гавриловой-Вигилянской, дававшей на разбор огромные фразы из «Кубика», маленького волшебного шестигранника, где он впервые набрел на эту длинную фразу, позволявшую объединить в одной ассоциативной цепочке бесконечно разные предметы, ветвящейся, как и ее синтаксическая схема на зеленой доске с бледными меловыми картинками, осыпающимися почти сразу, как всякая жизнь…
Писать о художнике можно только его методом. Метод Катаева иллюзорно прост. Но, конечно, за всеми этими ритмизованными периодами, имитирующими ход времени,- еще и нечеловеческая наблюдательность, и старческая тоска.
Где уж нам, как любил иронически замечать все тот же Катаев.
Довлатов, человек недалекий, в типично эмигрантском фельетоне «Чернеет парус одинокий» искренне удивлялся: как это Катаев мог хвалить Ленина?
Очень просто. Он его действительно любил. Он восхищался классовым подходом к литературе. Есть у него об этом вполне искренний рассказ «На полях романа», где, не в силах раскрыть секрета толстовского изобразительного и сюжетостроительного мастерства, он объясняет его устами старого коммуниста, просто и толково: Толстой как помещик сочувствует Левину и не любит аристократа Вронского (он к пятидесяти годам вполне отошел от военных и запрезирал их): чтобы уравновесить свою пристрастность, он Левина нагружает несимпатичными чертами, а Вронского – симпатичными. Получается объективно.
Каково!
Еще бы он не принял революции. Он принял ее без пошлой мстительности, без мелкого желания обогатиться. Обещая Бунину непременно разбогатеть, по-мальчишески бравировал. Просто он не любил аристократии. Ему хотелось, чтобы самая красивая девочка, богатая Надя Заря-Заряницкая, смотрела на него и любила его. Чтобы завоевать самых красивых девушек, он сначала пошел на фронт, а потом в революцию. Азарт строительства нового мира ведом только промежуточным классам. Только интеллигенции, разночинцам, губернским врачам и землемерам. Пролетариату, крестьянству и аристократии революция в равной мере без надобности.
Вероятно, я тоже слишком боюсь смерти и слишком люблю приморские города. Наименее постыдное проявление страха смерти – литература; спасибо ей.
Уже упомянутая здесь очерковая повесть «Поездка на юг» – классический пример насилия большого писателя над собой; шла вторая волна репрессий, первая обошла его чудом, во второй он был обречен.
И вот, чтобы доказать благонадежность, он пишет панегирик – описывает поездку в Крым, в Коктебель, в машине «Победа». Вещь настолько верноподданническая и низкопоклонская, что диву даешься. Статистические выкладки, любование колхозами, натужный, неестественный юмор, довольство всем – даже тем, что в гостинице места не нашлось… Возрастает год от года мощь советского народа! Но при всем при том – какое ощущение радости и довольства, какие точные – мельком, против воли – детали, и как завидуешь этой счастливой советской писательской семье, едущей к морю! Повидло и джем полезны всем.