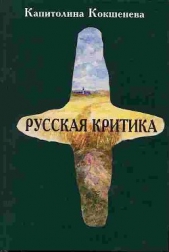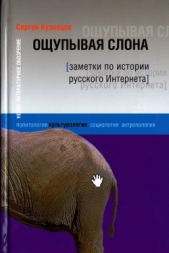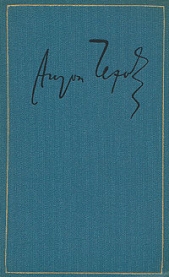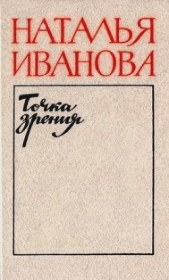Вместо жизни

Вместо жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Писал об этом, в сущности, и Бабель – «Конармия» (в особенности рассказ «Письмо») по своему пафосу с «Тихим Доном» очень схожа. Иное дело, что Шолохов нашел блестящую метафору, которую очень удобно положить в основу книги о метаниях целого народа от красных к белым и обратно. Есть у Григория Мелехова семья – и есть полюбовница. Вот от семьи к полюбовнице и мечется он, снедаемый беззаконной страстью,- а на эти метания накладываются его же судорожные шныряния от красных к белым. Своего рода «Война и мир» с «Анной Карениной» в одном флаконе: большая история становится фоном для любовной, частной. И ведь в чем особенность этой любовной истории: Мелехов жену свою, Наталью, очень даже любит. После ее смерти жестоко скорбит. Но и без Аксиньи ему никуда. И ведь Аксинья, что ценно, от Натальи мало чем отличается – просто она, что называется, «роковая». А так – обе казачки, обе соседки, умудряются даже общаться нормально, когда его нет… В шолоховском романе между красными и белыми нет решительно никакой разницы. И те и другие – звери. А раньше были соседями. Почему поперли друг на друга? Никакого ответа. Отец Мелехова, кстати, над этим вопросом задумывается. Почему семья распадается? Почему убийства никто не остановит? Почему Дарья выстрелила в военнопленного, а после этого с ума сошла, по рукам пошла и сифилисом заразилась? Почему у людей нет никаких тормозов? И открывается ему – а заодно и Григорию, и автору, и читателю – страшная, безвыходная пустота. О которой и написан «Тихий Дон»: нету у этих людей – казаков, опоры престола, передового и славнейшего отряда русской армии – никакого внутреннего стержня. Под какими знаменами воевать, с кого шкуру сдирать, кого вешать – все равно. И если пафосом «Войны и мира» было именно пробуждение человеческого в человеке под действием событий экстремальных и подчас чудовищных,- то главной мыслью «Тихого Дона» оказывается отсутствие этого самого человеческого. Поразительная легкость, с которой люди теряют тормоза. Шелуха слетает, человеколюбие упраздняется, принципы рушатся. Вот пришли казаки выгонять Григория и больную Аксинью из хаты, где они встали на постой. Вот Григорий – как-никак офицер – прикрикнул на них, и они сразу его зауважали. А могли б и убить, очень запросто. Между «зауважать» и «убить» – никакой границы. Устроить публичную расправу, побить дрекольем, утопить в тихом Доне – да запросто же! Тут и открывается смысл названия: течет река, а в ней незримые омуты, водовороты… просто так, без всякой видимой причины. И ни за омуты, ни за бездны свои река не отвечает. Ей все равно, между каких берегов течь. И на нравственность ей тоже по большому счету наплевать. И на славные традиции. Она имморальна, как всякая природа. От славного казачества остались один пустой мундир да воспоминания стариков, у которых уже и бороды позеленели от старости,- что-то про турецкую войну… «Турецкий гамбит», одно слово. А молодым вовсе уж все равно, кого насиловать. Хоть соседку, хоть дочь соседки.
«Тихий Дон» – книга уникальная, потому что хеппи-энд в ней отсутствует. Мало кому, вероятно, было такое позволено. Уж какие люди склоняли Шолохова написать счастливый финал! После третьей книги Алексей Толстой целую статью написал – верим, мол, что Григорий Мелехов придет к красным. А он не к красным пришел. Он пришел к совершенно другому выводу, и это становится в шолоховской эпопее главным: народ, не соблюдающий ни одного закона и не помнящий ни одного правила, народ, богатый исключительно самомнением, традициями и жестокостью,- разрушает свое сознание бесповоротно. Остаются в нем только самые корневые, родовые, архаические связи. Родственные. Стоит Григорий Мелехов на пороге опустевшего своего дома, держа на руках сына,- вот и вся история. Последнее, чего не отнять,- род. А ничего другого не осталось. И зов этого рода так силен, что пришел Мелехов на свой порог, не дождавшись амнистии. Ее ожидают к Первомаю, а он вернулся ранней весной, когда солнце еще холодное и чужой мир сияет вокруг. Его теперь возьмут, конечно. Но кроме сына – не осталось у него ничего, и этот зов оказался сильней страха.
Вывод страшный, если вдуматься. Потому что стихия рода – не только самая древняя, но еще и самая темная. Впрочем, когда человек мечется между красными и белыми – это тоже эмоция не особенно высокого порядка. Такой же темный зов плоти, как метания между женой и любовницей. За эту аналогию Шолохову двойное спасибо: сколько я знаю людей, бегающих от бурного либерализма к горячечному патриотизму – с такой же подростковой чувственностью, с какой они же скачут от надежной домашней подруги к дикой роковой психопатке с бритвенными шрамами на запястье и черным лаком на ногтях…
В общем, после двадцати лет перестройки (и как минимум десяти лет бессмысленных кровопролитий) пришли мы все к тому же самому. Впрочем, ведь и Пелевин в эссе 1989 года предсказывал, что перестройка – как и все революции – окончится впадением в первобытность. Да и война у Шолохова окончится потом именно тем же – народ-победитель в сорок пятом году так же почувствовал себя преданным, как в семнадцатом. И все, что осталось бывшему военнопленному,- это обнимать чужого сына. Почему-то эту параллель с гениальным рассказом «Судьба человека» стараются забыть, когда ищут другого автора «Тихого Дона». А ведь история-то – о том же самом: о людях, которые могут вынести что угодно, но сформулировать простейшие законы и ценности своей жизни неспособны. Никаких ценностей нет, кроме имманентных: родства, землячества. Потому Россия и живет по кругу, как природа: ничего человеческого. Одна стихия, древний и темный зов почвы. Никаких тормозов и правил – только зов предков. Никакой исторической памяти – только мертвое чучело традиции. Потому и простирается вокруг «сияющий под холодным солнцем мир», и все, что в нем остается,- ребенок.
Страшная книга. И очень хорошая. Так и видишь молодого человека, который, сочиняя ее, повзрослел – и додумался до такой горькой правды о своем звероватом и трогательном народе, что больше ничего подобного написать не смог.
Патриоты, откажитесь от Шолохова. Он не ваш.
2005 год
Дмитрий Быков
Очкарик и кентавры
Пришло время Бабеля! К 110-летию (в 1994-м столетие писателя не заметили – не до него было) артподготовка началась заранее: снимают документальный фильм, переиздают то немногое, что было издано, выстраивают новые версии о том, куда пропали двадцать четыре папки неопубликованной прозы, конфискованные при аресте.
Из всех русских литературных загадок XX века Бабель – самая язвящая, зудящая, не дающая жить спокойно. Потому так и жалко этих папок, что в них, может, был ответ. На самом деле ясно, что не было,- прятались там, может, как в архиве Олеши, крошечные, по пять-шесть строчек, записи о том, как он не может больше писать. Сделанное Бабелем – вещь в себе, законченный герметичный корпус текстов, состоящий из трех циклов (ранние вещи не в счет). Цикл первый – конармейский, второй – одесский, третий – известный нам очень фрагментарно сборник рассказов о коллективизации к примыкающие к нему интонационно и стилистически поздние рассказы о Гражданской войне (лучший из них – «Иван-да-Марья»).
С этим и приходится иметь дело.
Стало общим местом утверждение, что Бабеля навеки поразили два мира – мир его родной Одессы, биндюжников, бандитов, матросов, проституток, и мир Конармии времен польского похода, закончившегося, кстати сказать, полным провалом: разоренные еврейские местечки, могучие начдивы, кони, с которыми он так толком и не научился управляться… На первый взгляд, в этих двух мирах много общего: и там и тут обитают бедные и слабые еврейские мудрецы, на глазах у которых утверждает себя пышная и цветущая ветхозаветная жизнь. Типа «слабый человек культуры», как назвал эту нишу Александр Эткинд, наблюдает за мощной, растительной жизнью плоти, за соитиями и драками простых первобытных существ – женщин с чудовищными грудями, при скачке закидывающимися за спину, и мужчин с гниющими ногами и воспаленными глазами. И в самом деле между каким-нибудь бабелевским гигантским Балмашевым или Долгушовым и столь же брутальным Менделем Криком или Савкой Буцисом не такая уж большая, на первый взгляд, разница: сидит хилый, любопытный ко всему, хитрый очкарик и с равным восхищением наблюдает аристократов Молдаванки, «на икрах которых лопалась кожа цвета небесной лазури», и конармеиских начдивов, чьи ноги похожи на двух девушек, закованных в кожу. Тут можно было бы порассуждать о том, какая вообще хорошая проза получается, когда слабые люди пишут о сильных. Вот когда сильные про сильных – это совсем не так интересно. Джек Лондон, например, или Максим Горький. А вот когда книжный гуманист Бабель про начдивов и бандитов – тут-то и начинается великая проза; легко говорить банальности в таком духе.