Люба – Любовь или нескончаемый «Норд-Ост»
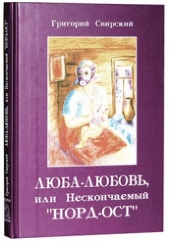
Люба – Любовь или нескончаемый «Норд-Ост» читать книгу онлайн
В основе романа подлинные документы, рассказы и глубоко личные черновые наброски ЛЮБЫ РЯБОВОЙ, студентки МГУ и ее товарищей по беде и страстям человеческим имени ОБУХА, хаотичные, торопливые наброски, которым, тем не менее, было посвящено специальное Слушание в СЕНАТЕ США (30 марта 1976 года).
Еще до Слушания в Сенате советская разведка начала широкую «спецоперацию» охоту за «уплывшими» в Штаты записками Любы Рябовой. Третьего сетнября 1975 года из ее квартиры в Нью-Йорке были украдены все черновики, копии документов и вся переписка.
Начался беспрецедентный шантаж известного ученого-химика профессора Азбеля, который в те же дни заявил на Международном Сахаровском Слушании в Копенгагене о полной поддерке самоотверженных и честных свидетельств Любы Рябовой.
Что произошло затем ни в сказке сказать, ни гусиным пером написать… Даже телефон в доме Любы раскалился от угроз и еще неведомой в Америке «воровской музыке»: «Отдай книгу, падла!».
Книга существовала еще только в воображении КГБ, но ведь это еще страшнее. Вы хотели иметь в своей библиотеке «книгу Любы Рябовой», господа и товарищи? Пожалуйста!
Сердечно признателен Любе и ее друзьям за глубокое доверие ко мне и веру в меня.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Сколько минут не работала вентиляция? – повторил он. – Я ответила… Он-то мне все и объяснил. Он оказал мне больше, чем имел право сказать. Ты знала, что Слава подрабатывает на военной кафедре?
– Я знала только, что у него допуск.
– Ладно, он сам тебе все расскажет …позже.
Позже Славка рассказал, что он усадил маму Веру в такси и отправил, как он заметил, «без звонка» к старому другу семьи Платэ Владимиру Филипповичу Кузнецову…
– Но даже Кузнецову, генералу химических войск, потребовалось время. Не забывай, что было воскресенье.
Мама шевелит губами, и ее слова впитываются в мою память как вода в вату, и голос ее постепенно обволакиваег меня защитным коконом и я уже ничего не слышу, погружаясь в другой мир зазеркалья.
Тридцатого сентября наша семья празднует «Веру-Надежду-Любовь». Все три имени произносятся скороговоркой, о Софье умалчивается, как о чем-то само-собой разумеющемся. Перед смертью наша замечательная бабка сказала моей матери: «Пусть в семье всегда будет вера, надежда, любовь». Но последние ее слова или забылись, или утратили свой первоначальный смысл. Впрочем, первый тост пили как всегда, за нее, за Софью… уже пять лет как пили стоя, молча, не чокаясь. Второй, разумеется, за маму – за Веру, хотя никакой веры давно не осталось. После смерти деда внуки забывали про Пасху и Рождество, а правнуки подрастали, не зная ни крещения, ни имени Бога. Наденьки – Надежды в нашей семье не было – будто не хотел Господь никому из братьев посылать девочку, .
– За Любовь! За здоровье младшей именинницы!– произнес Коля, поднимающий узкий хрустальный бокал, мелодичный звон… Я помню его тонкую руку, державшую узкий хрустальный бокал.
Довольно! Веры, надежды, любви больше нет.
– Ты прожила благополучную жизнь и никогда не поймешь…– вырывается у меня.
Мать усмехнулась горестно.
– Родная моя, я поняла все слишком рано, а ты слишком поздно, потому что росла под стеклянным колпаком. Если ты не устала, я расскажу тебе про свою «благополучную» жизнь,…
Глаза у матери вспыхнули янтарным огнем, морщинки на вдруг просветленном лице разгладились, голос зазвенел:
– Я помню себя впервые в белом платье, отороченном пухом, перед огромным зеркалом. Мое изображение мне не нравится, потому что из платья видны штанишки с кружавчиками, и мне это кажется крайне непристойным и я подтягиваю их кверху. В гостиной появляется горничная в черном платье и белой наколке. «Барышня», – говорит она и лопочет что-то несусветное: я понимаю только по-французски.
– Ты знаешь, дед был французским графом и остался в России ради красавицы бабки. Он выучил русский, вторично окончил Университет, стал присяжным поверенным.
– Если б ты видела его кабинет и приемную. Обивка зеленая, с драконами, огромный стол, аккуратно сложенные папки и бумаги, серебряный письменный прибор, уйма книг. Он всегда очень много работал.
Дед не любил царя и мечтал о русской революции во французском варианте. Когда же эта революция пришла в русском варианте… это какой-то мрак, пропасть, все исчезает будто с экрана. Слово «реквизировали» было одним из первых русских слов, которые я узнала. Имение моей крестной матери, дом с колоннами, ступеньки спускаются к Оке… Мы с братом едим белые лепешки и мед, но говорят, что в Москве голод.
В папином кабинете теперь живет мужчина в кожаной куртке. Я узнаю слова: большевик и наган… Отец уговаривает маму уехать во Францию, но она не может расстаться с Россией.
Из Петрограда приезжают мамины родители, я слышу слова «разорили», «отняли…».
Отца не убили – кто-то из бывшей бедноты за него вступился, его знали. Когда дед брался за дела бедноты, он отказывался от денег.
Утром и вечером я стою на коленях и молюсь. Я молюсь, чтобы мы справляли Рождество и не боялись большевика в кожаной куртке, чтобы мама снова была похожей за фею, чтобы мне снова оказаться в той гостиной, пусть уж и штанишки видны. Я учу русский язык, чтобы осмыслить все происшедшее. В четырнадцать лет иду в русскую школу.
~ Бабушка надеялась, что когда-нибудь в России все изменится.
А я хожу в свою лютеранскую церковь, там готовят ежегодную группу к конфирмации. Я никогда не забуду своего пастора Штрека, его веры, его простых и мудрых проповедей.
В двадцать девятом году запретили рождественские елки.
Их не было даже в церкви. Но пастор спокойно и уверенно говорил, что они есть, что они стоят вечнозеленые и будут стоять вечно.
После института мне долго не выдавали диплома педагога французского языка хотя мой родной язык французский. Это за то, что я носила крест и ходила в церковь. Однажды, это было в тридцать пятом году – церковь была закрыта, перед входом толпились растерянные люди. Говорили, что пастора Штрека арестовали, как японского шпиона. Его жену и детей, как я узнала потом, расстреляли через два месяца после него. Пожалуй, я тогда впервые поняла, что значит беспредельная, основанная на политических химерах, ненависть. Ненавидеть человека всю жизнь только за то, что он не похож на тебя? Страшный бред!
Незадолго до войны к нам постучали ночью. Пришел дворник, еще какие-то люди, все вещи в доме перевернули, а отца увели. Через три месяца арестовали и брата матери, и он уже никогда не вернулся. После смерти Сталина его сын получил справку о реабилитации.
Может быть, поэтому бабушка и говорила, что ее праху хватит и русской земли, но, если дед хочет, пусть надпись на их могиле будет по-французски.
Ты в детстве долго пытала меня, кто лучше Ленин или Сталин. Тебе непремено нужно было верить в апостола, как и всем вокруг. Какой только прохвост этой национальной особенностью русских, веривших в царя и столетиями молившихся за его здравие, не злоупотреблял?!. Почти все друзья моих родителей погибли во время революции, а все мои – в лагерях.
Я не побоялась тебя крестить, а вот рассказать о моем прошлом – не решалась.
Ты жила, как на небесах, не ведая, что твоего отца выгнали из Большого Театра за то, что он отказался стать стукачом. Он двадцать два года был концертмейстером – первой скрипкой в оркестре Большого театра, лауреат нескольких дирижерских конкурсов. А сколько дирижировал спектаклями в Большом – не сосчитать. А выгнали его по статье «профнепригодность».
В те годы для музыканта, да еще полуеврея, это означало если и не голодную смерть, то полный конец творчества. Сколько отец бился, прежде, чем его взяли на преподавательскую работу, но ты могла не считать деньги и не бояться завтрашнего дня. Ты существовала среди картин, серебра и антикварной мебели, носила остатки бабушкиных украшений, как стекляшки. И мир в твоем представлении состоял из музыки, театра и химии.
Всю войну я была в Москве, сдавая кровь в обмен на донорский паек.
Когда ты родилась, мы еще несколько лет недоедали. Но ты ни в чем не знала отказа…
Твой дед умер за письменным столом, отец трудится по четырнадцать часов в день, я работаю всю ЖИЗНЬ… Это ты, Люба, а не я прожила благополучную жизнь.
Доченька, сегодня ты знаешь увы, куда больше, чем следует в любом возрасте. Попала ты в железные когти дракона, в эту уродливую и мертвящую все на свете «систему». Я вымолила у дракона твою жизнь. Живи! Пусть даже видя мир иными глазами, чем раньше. Бог поможет тебе не пасть духом и не ожесточиться. Не ропщи, в страдании состоит высший смысл христианства, поблагодари Господа, что он дал тебе прозрение.
Зеркало теперь открыто. Оно висит прямо напротив двери, и я сразу вижу, кто входит в палату. В левом углу – отраженный кусок окна: облака, похожие на темные, точно пропитанные кровью куски ваты, голубой лоскут небес. Жизнь где-то вне и помимо меня, там, в зеркале. Даже фамилия врача, который заходит ко мне несколько раз в день, – Зерцалова. Лицо у нее доброе, глаза – запуганные. Я прошу ее только об одном-сделать так, чтобы я дышала, как раньше. Она что-то говорит про токсическую пневмонию, начавшийся отек легких, вставляет уйму непонятных слов, и ободряя, что все позади. Правда о химии надо забыть и вообще жить лучше где-то в горах, а не в центре Москвы.

























