Люба – Любовь или нескончаемый «Норд-Ост»
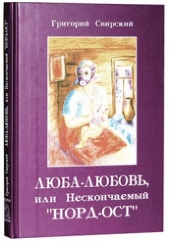
Люба – Любовь или нескончаемый «Норд-Ост» читать книгу онлайн
В основе романа подлинные документы, рассказы и глубоко личные черновые наброски ЛЮБЫ РЯБОВОЙ, студентки МГУ и ее товарищей по беде и страстям человеческим имени ОБУХА, хаотичные, торопливые наброски, которым, тем не менее, было посвящено специальное Слушание в СЕНАТЕ США (30 марта 1976 года).
Еще до Слушания в Сенате советская разведка начала широкую «спецоперацию» охоту за «уплывшими» в Штаты записками Любы Рябовой. Третьего сетнября 1975 года из ее квартиры в Нью-Йорке были украдены все черновики, копии документов и вся переписка.
Начался беспрецедентный шантаж известного ученого-химика профессора Азбеля, который в те же дни заявил на Международном Сахаровском Слушании в Копенгагене о полной поддерке самоотверженных и честных свидетельств Любы Рябовой.
Что произошло затем ни в сказке сказать, ни гусиным пером написать… Даже телефон в доме Любы раскалился от угроз и еще неведомой в Америке «воровской музыке»: «Отдай книгу, падла!».
Книга существовала еще только в воображении КГБ, но ведь это еще страшнее. Вы хотели иметь в своей библиотеке «книгу Любы Рябовой», господа и товарищи? Пожалуйста!
Сердечно признателен Любе и ее друзьям за глубокое доверие ко мне и веру в меня.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Всезнающий Коля, по его словам, потому и был вынужден не говорить моим родителям, что хлорэтилмеркаптан страшно опасен для жизни.
Профессор Альфред Феликсович Платэ, импульсивный и несговорчивый-Платэ-старший, был отправлен в командировку в тот же день, в течение двух часов. Он уехал, не попрощавшись даже с любимой сестрой, моей мамой, не ведая, что произошло.
Куда больше мамы, больше всех нервничает мой муж.
– Боюсь, что шрамы останутся, – Он достает сигареты и уходит в коридор.
Зеркало в палате закрыто огромным календарем, привезенным из какой-то экзотической страны. Моими руками его не сдвинуть. – Я ничего не могу сделать. Поэтому мама всегда рядом, теперь она даже спит на соседней койке. Календарь она обещала снять только в следующем, возможно, более мирном шестьдесят девятом году.
– Муж у вас просто красавец! – ахают сестры. – Такой внимательный, посмотрите: вся палата в цветах. Сестра делает укол и уходит. Покурив, Сергей возвращается.
– Скоты! Загубить такое лицо! Хорошо еще, что я запомнил это чудовищное слово: хлорэтилмеркаптан, иначе…
Ложка в руках у мамы начинает подпрыгивать.
– Коля? – Обычно я не задаю ей вопросов: у меня мало сил. Кроме того, мне и так ясно: Коля знал, куда меня отправляют и что такое хлорэтилмеркаптан, почему он не бился головой о стенку?
– Ты забыла, что твой Коля спит и видит себя членкором Академии Наук Эс-Эс-Эр. Ради этого он душу дьяволу продаст, а не то что двоюродную сестру, с которой с младых ногтей… эх, да что там…
– Я звонил ему каждые полчаса, чтобы узнать насколько опасен этот хлор… как его?.. – раздраженно повторял Сергей. – В больницу к тебе не пускали, охраняется, как Кремлевский Дворец. И я места себе не находил… Но твой братец, как сквозь землю провалился… Когда я объяснил его секретарше,что мы родственники, и он мне позарез нужен, кто-то ответил за нее: ушел к начальству… В восемь часов вечера его аспирантка испуганно сказала: «Еще не вернулся от начальства.» Его домашние объясняли, что он задерживается на работе и будет поздно.
– Я ничего не понимаю… Как же Сергей узнал, что я в больнице?
– Хватит строить иллюзии, – взорвался он, – грош им всем цена, трусы, навозные жуки. Что твой милый братец, что знакомые моего отца с Лубянки-матушки…Ну, да ладно, мне пора в райком партии. Надо самому лезть повыше, чтобы эти сволочи с потрохами не проглотили.
Сергей надевает пиджак из модного в тот год материала «ударник», целует меня в волосы и долго смотрит на лицо.
– Узнай у врачей нельзя ли как-то…излечить кожу, – вздыхает он и уходит.
Я встаю, иду к зеркалу, но вижу… календарь. И здесь вместо зеркала заморский календарь. Глаза ищут знаменательную дату всей моей жизни – октябрь четырнадцатого 1968 года…
«Четырнадцатое…» Голова кружится, не могу найти числа…Неважно, в конце-то концов. Важнее, что там, за календарем…
– Рано, – говорит мама. – Теперь все зависит от времени.
Где-то я это слышала…
Теперь все зависит от зеркала. Не все, конечно,но очень многое.
Если локоть сильно прижать к календарю и потянуть его вниз, все станет ясно.
– Зачем? – слышу я. И будто провалившись сквозь зеркало, вламываюсь в прошлое.
Это мое лицо. Мои глаза, рот, нос – даже морщины не появились. Все как было…
Позднее, вглядываясь в зеркала и скользя по времени, стала понимать, что начала обдирать, порой начисто, свою толстую, толще, чем слоновья, кожу беспечной эгоистичной девушки, которой ни в чем не было отказа…
– Когда ты узнала, что я в больнице? – Мне нужно соединить мир в единое целое из слов и осколков памяти, но мысли кружатся, будто снег и сор за окном.
– Ложись, я все расскажу! – Плечи у мамы опускаются, как под тяжелой ношей. – Во вторник, пятнадцатого октября, я собиралась к тебе. – Мы договорились в воскресенье, помнишь?.. Я поехала из ГИТИСа прямо к тебе, но когда твоя разлюбезная свекровь открыла дверь, я сразу почувствовала что-то недоброе. Лицо у нее было, мягко говоря, кислое, а в прихожей стоял какой-то странный запах. Я зашла к тебе в комнату – на неубранной постели лежали тетради и перчатки; щетка для волос валялась на полу среди рассыпанной пудры. Кольца и часы брошены на телефонный столик.
– «Люба заболела, лицо и руки в пузырях, будто ошпарилась»,– сказала дорогая свекровь и принесла твой халат. Она держала его брезгливо, двумя пальцами, а по комнате полз запах тухлого чеснока. В этот момент зазвонил телефон, и я взяла трубку.
Мужской голос спрашивал, с кем он может говорить о Рябовой.
– С ее матерью, – ответила я.
Это был Пшежецкий, От него узнала, что ты в Институте Обуха, потому что сломалась вентиляция, а вещество вредно для кожи. Но говорил он так, будто вот-вот лишится рассудка, дважды повторив, что он не знал, какая ты Рябова, что он не виноват, что произошла ужасная ошибка. Он кричал, что ты никогда не упоминала ни о муже, ни о семье Платэ… – Все это было похоже на истерику. Когда он спросил меня, правда ли, ЧТО Я РОДНАЯ СЕСТРА АЛЬФРЕДА ФЕЛИКСОВИЧА, я решила, что он просто сумасшедший, и на этом разговор был окончен. Я помчалась в институт Обуха. Но к тебе не пускали. Один день мне объясняли, что тебе вредно присутствие посторонних, другой, что врачи опасаются инфекций с улицы, потом, что у вас в палате карантин. О твоем здоровье отвечали расплывчато: «не знаем, посмотрим, будет видно». Сергей услышал обо всем от меня еще во вторник и стал разыскивать Колю, но тот позвонил сам около часа ночи. Успокаивал меня, убеждая, что вещество действует только на кожу и как-то странно посочувствовал: «Ужасно досадная история!».
Мне показалось, будто он чего-то недоговаривает: – у него были какие-то неискренние интонации. Я попросила сказать мне правду, но ты сама понимаешь, что это как раз единственное, чего он не мог.
Голос мамы дрогнул и оборвался. Она отходит к окну, и я вижу только ее усталые, плечи и беспомощные руки. Она так пристально смотрит, на неэамерзший угол стекла, будто пытается понять, что там сейчас, за окном…
– Моя дорогая,– не забывай, что Коля член их партии и к тому же баллотируется в членкоры. Я думаю, он не случайно ходил к начальству и не мог, понимаешь, ну, не мог ничего сказать. Бог ему судья… Обычно она говорит так о совсем чужих людях.
– А дядя Фред…. тоже? –У меня пересыхает в горле.
– Девочка моя, когда-нибудь ты научишься разбираться в людях и еще кое в чем… Мой брат не стал бы молчать ни одной минуты. Его неожиданно отправили в командировку. Он даже не успел попрощаться со мной, а о тебе узнал лишь два дня назад, когда вернулся в Москву…
Поверь мне, за всю свою жизнь я не видела его в таком подавленном состоянии, как сейчас. Он был у меня в воскресенье, когда с тобой сидел отец.
– Что я могу сделать? Что?! – кричал он. – Я родился и вырос здесь, в Москве, в этом придуманном средневековым монахом Третьем Риме с его вечным имперским комплексом неполноценности и уродливо раздутым национальным высокомерием, чванством. – Что я сейчас могу?! Ты думаешь, я заведующий кафедрой нефти в МГУ, профессор, известный ученый? Нет! Я для них – беспартийный француз! Потому не лезу даже в членкоры, хотя давно должен быть академиком. Это неважно, я никогда не гнался за чинами, но пойми: у меня нет права голоса. Вспомни, какие у меня были неприятности только потому, что надпись на памятнике наших родителей была сделана по-французски.
– Любонька, Альфред не желает разговаривать с Колей, я надеюсь, это временно… Пока тебе трудно понять, что значит сын для отца… Я бы не хотела, чтобы ты расстраивалась, но, по видимому, от нашей семьи ничего не осталось. Так должно было случиться рано или поздно – с тех пор, как не стало наших замечательных стариков, я всегда это ощущала.
Мама тяжело опустилась на постель, и я заметила, что глаза у нее будто подернулись ледком.
– Не думай об этом, Любочка! У нас есть прекрасные друзья, и тебя вытащили из этой, как ты говоришь, мясорубки только потому, что среди них есть очень порядочные люди. И не удивляйся, в университете пустили слух, будто ты пыталась покончить с собой. Но все, кто видел тебя в практикуме тогда, во вторник, доказывали, что это ложь.. Ничего не знал только твой верный Санча Панса, твой друг с самого первого курса Слава Дашков, его не было в тот день в Университете. Прошла почти неделя, прежде, чем он зашел, чтобы узнать о тебе. Я рассказала ему то, что услышала от Сергея и Пшежецкого: о курсовой, о сломанной тяге, о пузырях. Я заметила его колючий взгляд и решила, что он мне не верит. Тогда я достала клочок бумаги, на котором записала «хлорэтилмеркаптан». Когда Славка прочел это, губы у него побелели «Сколько?» – спросил он. Я не поняла вначале, что «сколько»?

























