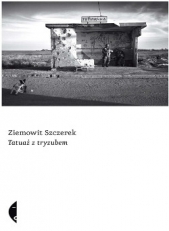Придет Мордор и нас сест, или Тайная история славян (ЛП)

Придет Мордор и нас сест, или Тайная история славян (ЛП) читать книгу онлайн
Первая книга Земовита Щерека, за которую он получил Паспорт Политики. Раздолбайская, но честная попытка молодого журналиста разобраться: а что не так с Украиной?
+18
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда я уезжал, Пэрис с подружкой (а знают ли родители, где ты находишься, детка?) сидели на лежаках, выставленных в огороде. Между грядками помидоров и капусты. Глаза их были закрыты темными очками. Рядом с лежаками стояли стаканы с темной жидкостью. Это могла быть и кола без водки, только мне как-то не хотелось в это верить. Пэрис расставила ноги. Трусов на ней не было. А у меня ни на что не было сил. Мне нужно было успеть на автобус до Измаила. В этом же месте мне не хотелось оставаться ни минутой дольше.
Автобус опаздывал. Я сидел в привокзальной пивной, которая — если бы не меню — точно так же могла бы находиться где-нибудь в Индии. Вместо двери — тряпка, на полу бетонный сток, пластмассовые столики. Я пил чай и кофе. Попеременно. Из совершенно одинаковых чашек. Ко мне пристал какой-то парниша. Приблизительно моего возраста и роста, но сложенный словно танкетка. Короче, здоровенный тип, но лицо было даже ничего, честное. Он мне рассказывал, что работает строителем и что прекрасно зарабатывает. Что уже вскоре у него накопится на первого мерина. Ну да, не целого, не нового, тем не менее. Я спросил у него, а как живется в Аккермане зимой. Тот задумался. — Темно, — сообщил он наконец. — И дубарь.
Ну, блин, подумал я, оригинально. Но попытался представить себе этот вроде-как-город-вроде-как-село без зелени, без света — и задрожал. Я увидел трясущуюся от холода преисподнюю. Людей, бредущих на ощупь через мрак, через бессмыслицу, через отсутствие формы. Все это должно было быть ужасным. Человек не должен жить в подобных местах.
В Измаил нужно было ехать через степь, но степь, покрытую налетом цивилизации. А точнее — ее остатками. Какими-то раскрошенными бетонными остатками чего-то неопределенного. В конце концов, начался город Зелень и домики. Сразу же возле вокзала начинался базар. Для меня он был похож на какую-то советскую Африку. Все торговали тем, что у них было. От кулечков с семечками и кучки яблок на разложенных бабулями жалких платочках, до продаваемых пучками индийских подделок «харлеев». Здесь имелось все, что помещалось между низкими, новороссийскими, колониальными домиками. В этой жарище, среди этих мух, среди людей, одетых в спешке в первые попавшиеся под руку тряпки. Я как будто бы находился в какой-то, блин, Киншасе. Но эта бесформенность мне даже начинала нравиться. А вот в Польше я ее ненавидел. Здесь же у меня не было выбора. Я всегда подозревал, что поездка на постсоветский восток — это поездка в глубины того, что ненавидим в собственной стране. И что как раз это и является основной причиной того, что поляки сюда приезжают. Потому что это путешествие в Schadenfreude, путешествие, в которое отправляешься затем, чтобы было к чему возвращаться. Потому что здесь, в принципе, все то же, что и у нас, только в большей концентрации. Свалка всего того, что мы пытаемся выкинуть от себя. Я всегда это подозревал, хотя написать это мог лишь журналист, пишущий гонзо. В противном случае его бы просто распяли.
В центре города на пьедесталах стояли Ленин и Суворов. Ленин был похож на Великого Электроника из «Пана Клякса в космосе» [102] — он был весь покрашен серебрянкой. Толстенный слой краски. На лице статуи были хорошо видны мазки кистью.
Говоря по правде, мне страшно хотелось отсюда выбраться. В конце концов, это был уже самый конец Украины. И я дошел до самого ее конца: до Килии, ответвления Дуная, за которой уже была Румыния. На румынской стороне рос лес. Из леса вышел мужик, достал свой перец и начал отливать в пограничную реку. Я ему помахал рукой. Что ни говори, земляк из Европейского Союза. Тот же показал мне средний парень и сильнее выгнул бедра, направляя струю мочи в мою сторону. Я вытащил фотоаппарат и сделал снимок. Тот прикрыл лицо, отвернулся, но ссать не перестал. Румыния, — думал я, — Европа. И мне захотелось попасть туда.
Неподалеку располагался «морвакзал». В моем путеводителе было написано, что отсюда на румынскую сторону ходили паромы. Я зашел вовнутрь. Окошко кассы было заставлено фикусом, но внутри кто-то был, поскольку я слышал голоса. Я постучал в дверь. Мне открыли. В помещении сидели три тетки, которые решали кроссворд и пили чай. Я спросил, можно ли купить билет до Румынии. Мне ответили, что уже несколько лет туда ничего не ходит. Тогда зачем здесь касса? — спросил я, а они обратили мое внимание на факт, что перед окошком стоит символический фикус. Он ее заслоняет. Что означает: касса не работает. Но тогда, — вырвалось у меня, — зачем вы здесь сидите? — А что, — спросила одна из теток, толстая, с химией на голове, — на пособие по безработице идти? Милостыню просить? — Либерал, — буркнула другая, похожая на цесарку, и вписала слово в кроссворд.
Я вышел, уселся на лавке спиной к Румынии и глядел прямо перед собой. Именно отсюда, — размышлял я, — начинается пространство, действующее отсюда, из этого вот начала, до самого Владивостока, по Сахалин, по Японию и Северную Корею. Всего пространства я представить не мог. Полностью. Если Россию невозможно понять умом, то ее тушу — тем более. Вот нельзя ее понять, и точка. Наше европейское мышление о пространстве здесь словно кукольный домик рядом с заводским цехом. У нас граница — это нечто естественное, а здесь — неестественное. В конце концов, я встал с той лавки, а что мне еще оставалось делать. И вернулся в данное пространство. Хлебного кваса я купил из цистерны на колесах. Я допивал его, когда приехал трактор. Он уже тащил за собой с пяток цистерн, как эта, соединенных одна с другой. Из трактора вышел шофер, по-доброму поздоровался с бабулей-продавщицей, развернулся и прицепил эту цистерну к своей последней. Он уехал, а бабуля сложила рыбацкий стульчик, сунула его в пластиковый пакет, где уже была газета, и на усталых ногах поковыляла к остановке маршруток.
И так оно все и выглядело. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. До самого Владивостока.
Я присел в пивной. Там уже сидела парочка, лет за шестьдесят. Выглядели они словно анклав США на территории Украины. У обоих были настолько американские мины, что принять их за кого-либо другого было попросту невозможно: характерная самоуверенность, смешанная с потерянностью.
В границах их столика была Америка и точка. Никаких Измаилов, Буджаков, Украин. Америка была в их мимике, жестах, способе, с которым эта пара относилась к пространству. Она, выпрямленная, словно проглотила ручку от метлы — была чем-то взбешена, но это бешенство сдерживала, контролировала его; бешенство отражалось только лишь в ее упрямой мине и том, как она барабанила длинными, тонкими пальцами по клавишам ноутбука, а барабанила она так, словно капли проливного дождя. Он же не слишком знал, куда себя деть. У него было вытянутое лицо американского фрайера из голливудских фильмов. Он то читал газету, то поглядывал на экранчик мобилки, то на Килию, то на Румынию на другом берегу. Иногда он пытался заговаривать с женщиной, та же — худющая, длинная, с остроконечным носом, и вообще какая-то остроконечная — только шипела на него.
Я сел за столик рядом с ними. Женщина колотила по клавишам, как будто хотела разнести ноут. Мужичок с надеждой поглядывал на меня. На мой рюкзак, на мою одежду, выдающую чужестранца. Что-то прокручивал в голове. Он явно размышлял, как бы заговорить со мной. И было видно, что поговорить ему ужасно было нужно.
В конце концов, он поднялся из-за стола и подошел. И заговорил:
— А ничего ведь телки на этой Украине, а? — И прибавил потише, чтобы жена не услышала: — Феминизм им еще головы не вывернул.
Это было настолько глупо, жалко и отчаянно, что мне его даже жалко сделалось. Я пригласил его присесть. Он же — а что — уселся и начал свой плач, который можно было бы назвать блюзом сотрудника Корпуса Мира [103].