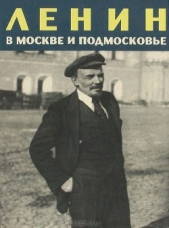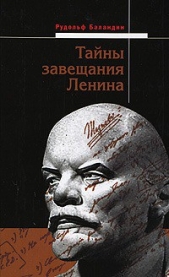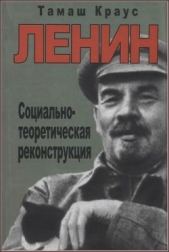Красный чудотворец: Ленин в еврейской и христианской традициях
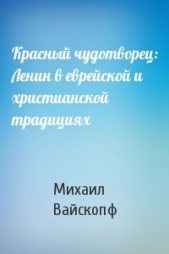
Красный чудотворец: Ленин в еврейской и христианской традициях читать книгу онлайн
Несмотря на бесспорную популярность Ленина, его культ долгое время был поразительно безличным – в согласии с партийным идеалом унифицированной массовости и тезисом о пролетариате как слитном коллективном организме, нивелирующем в себе любого индивида (вечное пролеткультовское "Мы"). В первые годы революции воцарилась старая коллективистская мистика Луначарского – примат человеческого Вида над личностью – и теогония горьковской "Исповеди": "Богостроитель этот суть народушко! ‹…› Народушко бессмертный, его же духу верую, его силу исповедую, он есть начало жизни единое и несомненное; он отец всех богов бывших и будущих!"
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Миллионам ратей поля и металла
Понятен ты и равен, как двойник.
И в мире – от велика и до мала -
Тебя воззвал родимых масс язык.
И весь прямой и пламенный мудрец,
Пролетариата верный образец,
Пребудешь поколеньям неизменен.
Среди пожара грозного кузнец,
В руке взнесенный молот, твой близнец,
Стоишь, весь озарен, о вождь наш Ленин! (17) Ср. в стихах другого пролетарского поэта (подпись – Рабочий Ан). живописующего инфернально-вулканический напор революции (1922):
Кто он – гений, человек ли?
Создал "ад", похерил "рай":
Хорошо нам в красном пекле -
Брызжет лава через край…
Мы – хозяева… Мы – боги…
Крушим, рушим, создаем…
Гей вы, нытики, с дороги!
Беспощаден бурелом. …
Он помог нам, мы окрепли,
Кровь, как лава, горяча:
Потому-то в красном пекле
Крепко любят Ильича… (18) Главная заслуга Ильича состоит в том, что "он помог нам" – коллективным богам новой жизни; но его облик носит вместе с тем и налет особой, метафизической неотмирности, сообщающей ему иной – отцовский статус.
Все явственней, преимущественно после помпезного ленинского пятидесятилетия, ощущается в панегирической макулатуре это напряжение между двумя контрастными сторонами ленинского образа – сыновней и авторитарно-демиургической, т.е. отцовской. Значительно позднее биполярность ленинской фигуры – уже с явным сдвигом в сторону отцов¬ского начала – запечатлел Маяковский: "Ветер всей земле / бессонницею выл, / и никак / восставшей / не додумать до конца, / что вот гроб / в морозной / комнатеночке Москвы / революции / и сына и отца". Проступает это сбивчивое дву-единство и в очерке Кольцова:
"Отлично известно отношение партии к Ленину. Единственное в истории, неповторимое сочетание доверия, благоговения, страха, восхищения с дружеской фамильярной спайкой, с грубоватой рабочей лаской, с покровительственной заботой матери о любимом сыне".
Партийно-богородичная икона с ее "грубоватой лаской", в общем, соответствовала тогдашнему положению дел (хотя и заметно корректировалась за счет таких проявлений встречной ленинской "грубоватости", как разгром рабочей оппозиции, гонения на Пролеткульт, репрессии против забастовщиков и т.п.); но с этой покровительственной заботой уже сочетается здесь молитвенно-величальный ассортимент любого богослужения: вера ("доверие"), благоговение, страх Божий.
Сходная двупланность отражена и в названии стихотворения Филипченко – "Великому брату": то был неуверенный компромисс, в котором евангельское обозначение Христа как "старшего брата" (ср. Мф. 25: 40) перенесено на Ленина, но с существенным повышением в чине – до "великого". У Кольцова сходная путаница в семейных отношениях просвечивает еще заметнее; сразу после процитированной фразы о "любимом сыне" он внезапно рисует совершенно другой родственный расклад: "В.И. Ульянов (Ленин) – грозный глава республики-победительницы и Ильич – простой близкий старший брат" (19). С тем же Янусом встречается умиленный герой А. Аросева: "Будто это старший брат его…" (20).
Дело тут в том, что коллективистские формы культа неудержимо смыкались с накатанной традицией монархических славословий, которые всегда проецировали на государя (как на "живую икону" и "образ Божий") двойственное – богочеловеческое – естество Христово. В качестве божественного начала выступала государственно-юридическая суровость, строгость царя, которую обязательно уравновешивало его же собственно-человеческое тепло: кротость, доброта, милосердие. Первая сторона личности представительствовала от миродержателя Саваофа, вторая – от вочеловечившегося Иисуса (21). По аналогичной модели постоянно раздваивался и председатель совнаркома – на Саваофа-Ленина и Христа-Ильича (или Ульянова):
"У этого изумительного существа – два лица ‹…›: Ленин и Ильич. Великий вождь.
Историческая, исполинская фигура. И вместе с тем, такая изумительная, обаятельная, чудесная личность" (А. Сосновский) (22).
"Он – с одной стороны Ульянов, а с другой стороны он -Ленин" (Н. Осинский) (23).
"А в глазах есть противоречие, они добрые и строгие" (А. Аросев) (24).
Уже в 1920 г. и особенно после смерти властителя это "противоречие" пытаются синтезировать в духе мистического человеколюбия вчерашние богостроители – Горький и Луначарский: оба называют его Человеком с большой буквы (отсюда и "самый человечный человек" Маяковского), умеющим ненавидеть от великой любви.
Замечательный комизм таким диалектическим акафистам придает как напыщенность Горького, так и обычная стилистическая сумятица, свойственная наркому просвещения, который в своем показе Ленина сочетает стародевичьи ужимки ("Гнев его также необыкновенно мил") с канцелярскими оборотами; в итоге Ильич являет собой некую помесь большевистского Амура с анатомическим пособием: "Если перейти к сердцу Владимира Ильича, оно сказывалось, во-первых, в коренной его любви…" (25).
К числу "земных" свойств относились все та же внешняя неказистость, бытовая непритязательность и скромность (по части которой среди европейских деспотов он уступал, кажется, только португальскому диктатору Салазару, скромнейшему из скромных). Панегиристы стараются оживить блеклую гамму хоть какими-то индивидуальными тонами, трогательными и забавными "человеческими слабостями" (ориентируя их одновременно на образ Мессии в Ис. 53: 2) – тенденция, которая расцветет потом в мемуаристике и будет пародироваться в анекдотах. Всего через несколько лет после его смерти выходит памфлет, где звучат горькие насмешки над чрезмерным очеловечением вождя:
Полный, добродушный мужчина отдыхает на травке. Кто это? Дачный муж на отдыхе?
Дальний потомок перовского птицелова? Нет, это Ленин накануне Октября скрывается в шалаше вблизи Сестрорецка.
Или же: человек в пиджачке и кепке любуется Золотоглавой Москвой. В розовом закате высятся купола. "Вечерний звон, вечерний звон. Как много дум наводит он".
Кто это? Мелкий служащий на прогулке? Нет, – первый Председатель Совета Народных Комиссаров – Ленин (26).
Бебель в Цюрихе Важнейшее место в комплекте христианских реминисценций занимала клишированная множеством авторов евангельская простота и доступность Ильича, которая на деле представляла собой довольно сложное понятие. В этой "простоте" разоблачительный редукционизм, прямолинейность и ясновидение Ленина соединялись с каноническим определением души ("субстанция простая, неделимая"), открытостью и сердечностью Иисуса, его любовью к "простецам". Но тут у Ильича был непосредственный, тоже сакрализованный предшественник, на образ которого он сам ориентировался, так же как ориентировалась на него и вся казенная лениниана (постаравшаяся затем стереть память об этом предтече). Я имею в виду Августа Бебеля – харизматического "рабочего вождя" немецкой социал-демократии, весьма уважительно упомянутого Лениным еще в "Что делать?" (а в 1910 г. и Сталиным в статье к 70-летию Бебеля (27)). Вот как в некрологе (1913) вспоминал о нем большевик-религиовед Бонч-Бруевич, знавший толк в подобных славословиях и позднее ставший одним из главных создателей ленинского культа; здесь описывается приезд Бебеля в 1898 г. к "рабочим-цюрихчанам":
"Помню, быстро, как молния, разнеслась весть по русской колонии:
– Бебель в Цюрихе!
– Где? Где?.. ‹…› Взвился занавес сцены и из боковых дверей быстро вышел Август Бебель. На мгновение все стихло, казалось, замерло, притаилось… Он впился в залу, как будто каждому смотря в душу, и вдруг зашумели, поднялся не гром, а какой-то вихрь рукоплесканий, радостных криков, закружился и пошел по залу ‹…› Бебель быстро поднял руку… и сразу, точно это был удар дирижерской палочки перед громадным оркестром, – все смолкло так же моментально, как разразилось бурей ‹…› Что за чародейство в этом человеке? Какая непостижимая власть над сердцами людей!!
Какое могучее владычество над думами и чувствами рабочих!
Просто, сухо, деловито обратился он к слушателям ‹…› Его простые выкладки, цифры, начиненные жизненными примерами, – все такое простое, общепонятное, все так было хорошо и просто сказано… с такой большой, бьющей через край любовью к рабочему классу, что невольно волновало и заражало всех, как-то собирало в одну дружную семью ‹…› Его окружили, жали ему руки. Он так просто, так мило со всеми шутил, разговаривал, встречая старых знакомых рабочих, расспрашивал их о цюрихских делах… К нему приблизилась группа русских социал-демократов, и надо было видеть, с какой внимательностью стал он расспрашивать их о русских делах ‹…› Окруженный громадной толпой, Август Бебель шел по зале, пробираясь к выходу…