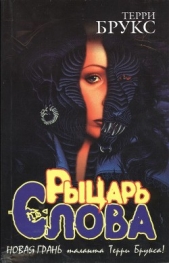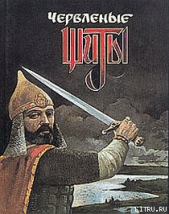Портрет слова. Опыт мифологемы, или Попытка мистификации
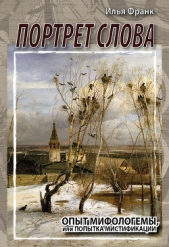
Портрет слова. Опыт мифологемы, или Попытка мистификации читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нечто подобное, по моему ощущению, случается в картине Саврасова «Грачи прилетели», в которой тоже как бы поворачивается зеркало. В картине нетрудно узнать разломленную дощечку: мир земной и мир небесный отражаются друг в друге, разделенные линией забора и рядом домишек. Точнее, мир над забором и домишками есть одновременно и тутошний мир неба и дали, и мир иной. Поворачивающееся зеркало. Разделяющая их на картине линия есть одновременно и соединяющий шов, что подчеркнуто числом домов (три) и треугольниками крыш. Кроме того, обе половинки как бы сшиты тремя березами на переднем плане, главная из которых отклонилась в сторону, чтобы не застить колокольню, чтобы продолжиться колокольней с тремя проемами и тремя гранями. Выше эта береза троится ветками; за каждой из которых виднеется один из куполов трехглавого храма. На березах и над березами – птицы – мифические проводники душ в инобытие. Здесь – лик Святой Троицы, и все подчинено этому, до самой маленькой проталинки. Причем ни грачи, ни дома, ни березы, ни забор, ни проталинка об этом и не подозревают. Вряд ли и сам Саврасов намеревался писать Троицу, вряд ли «подгонял» под это все детали. Но почему он написал именно этот вид, а не тот, что открылся бы ему, поверни он немного голову? Дело в том, что именно на этом участке пространства и в это мгновение он подспудно ощутил обращенный к нему лик. Именно здесь вдруг оказался, по выражению Мирча Элиаде, «центр мира», прошла мировая ось (т. е. место входа на Небо и под Землю), здесь внезапно упразднилось обычное время, сменившись мифологическим временем обряда, здесь неожиданно возникло чувство реальности. Мирча Элиаде в книге «Миф о вечном возвращении» говорит:
«При комплексном рассмотрении поведения человека архаической стадии развития общества поражает следующий факт: дела людей, равно как и предметы окружающего их мира, не имеют собственной реальной значимости. Предмет или действие приобретают значимость и, следовательно, становятся реальными, потому что они тем или иным образом причастны к реальности трансцендентной (запредельной. – И. Ф.)».
Подобное возвращение к реальности, к действительности происходит и с героем романа Марселя Пруста «Под сенью девушек в цвету»:
«Мы начали спускаться по дороге в Юдемениль; неожиданно на меня нахлынуло глубокое счастье, – таким счастливым я не часто бывал после отъезда из Комбре, – оно напоминало то, что я переживал, например, глядя на мартенвильские колокольни. Но теперь счастье было неполное. Я заметил невдалеке от ухабистой дороги, по которой мы ехали, три дерева, когда-то, должно быть, стоявшие в начале тенистой аллеи, – складывавшийся из них рисунок я уже где-то видел; я не мог вспомнить, из какого края были точно выхвачены деревья, но чувствовал, что край этот мне знаком; таким образом, мое сознание застряло между давно прошедшим годом и вот этой минутой, окрестности Бальбека дрогнули, и я задал себе вопрос: уж не греза ли вся наша сегодняшняя прогулка, не переносился ли я в Бальбек только воображением, не является ли маркиза де Вильпаризи героиней романа и не возвращают ли нас к действительности только вот эти три старых дерева, как возвращаешься к действительности, оторвавшись от книги, описывающей совсем иные места так ярко, что в конце концов нам кажется, будто мы действительно там поселились?
Я смотрел на них, я видел их ясно, но мой разум сознавал, что за ними скрывается нечто ему не подвластное, что они вроде находящихся от нас слишком далеко предметов: как ни стараемся мы до них дотянуться, а все же в лучшем случае нам удается на мгновенье коснуться их оболочки. Мы делаем передышку только для того, чтобы размахнуться и еще дальше вытянуть руку. Но для того, чтобы мой разум мог собраться с силами, взять разбег, мне надо было остаться один на один с самим собой. Мне хотелось свернуть с дороги, как на прогулках по направлению к Германту, когда я обособлялся от родных. Мне даже казалось, что я должен свернуть. Я знал это особое наслаждение, которое, правда, требует работы мысли, но по сравнению с которым приятность безделья, склоняющая вас лишить себя наслаждения, представляется нестоящей. Это наслаждение, источник которого я пока еще только предчувствовал, который мне предстояло создать самому, я испытывал редко, но всякий раз мне казалось, что события, происшедшие в промежутке, незначительны и что если я ухвачусь за эту единственную реальность, то для меня наконец-то начнется настоящая жизнь. Я приставил руку щитком к глазам, чтобы закрыть их незаметно для маркизы де Вильпаризи. Я ни о чем не думал, затем, вновь собрав мысли и крепче держа их, я еще дальше рванулся по дороге к деревьям или, вернее, по внутренней дороге, на краю которой я видел их в себе самом. Я снова почувствовал за ними тот же самый предмет, знакомый, хотя и не явственно различимый, но добраться до него так и не добрался. Деревья между тем все приближались. Где же я их видел? Вокруг Комбре ни одна аллея так не начиналась. Еще меньше напоминало мне этот вид то местечко в Германии, куда мы с бабушкой ездили как-то на воды. Уж не явились ли деревья из далеких лет моего детства, таких далеких, что время успело разрушить все окружавшее их, и, подобно страницам, которые вдруг с волнением вновь находишь в как будто не читанной книге, они одни выплыли из забытой книги моего раннего детства? А быть может, они составляли часть одного из пейзажей снов, пейзажей всегда одинаковых, во всяком случае для меня, потому что их необычность являлась лишь объективацией во сне того усилия, какое я делал, пока еще бодрствовал, – делал, пытаясь постичь тайну местности, которую я угадывал за ее внешним видом, что так часто со мною случалось, когда я шел по направлению к Германту, или пытаясь внести тайну в местность, которую мне хотелось узнать и которая с того дня, когда я ее узнавал, теряла для меня всякий интерес, как, например, Бальбек? Быть может, они представляли собой совершенно новый образ, оторвавшийся от сна, который я видел минувшей ночью, и уже расплывшийся, так что казалось, будто он явился издалека? А быть может, я никогда их не видел, быть может, они содержали в себе, как иные деревья и травы, которые я видел около Германта, смысл не менее темный и столь же трудно уловимый, какой содержит в себе далекое прошлое, и когда они заставляли меня погружаться в свои мысли, мне казалось, будто передо мной воскресает воспоминание? А что, если они никаких мыслей в себе не таили и двоились во времени, как иногда двоятся предметы в пространстве, только потому, что у меня устали глаза? Я не мог себе это объяснить. Между тем они шли мне навстречу – некое мифическое видение, хоровод ведьм или норн, собиравшихся прорицать. Я склонен был предполагать, что это призраки прошлого, милые друзья детства, исчезнувшие приятели, с которыми меня связывают воспоминания. Подобно привидениям, они словно молили меня взять их с собой, оживить. В их наивной, повышенной жестикуляции читалась бессильная мука любимого существа, утратившего дар речи, сознающего, что мы не догадаемся, что оно хочет, да не может сказать нам. Но вот мы уже проехали развилку дорог, и деревья остались позади. Коляска уносила меня прочь от того, что в моих глазах было единственно подлинным, что могло бы меня действительно осчастливить, она напоминала мне мою жизнь.
Деревья удалялись и отчаянно махали руками, как бы говоря: “Того, что ты не услышал от нас сегодня, тебе не услыхать никогда. Если ты не поможешь нам выбраться из этой трясины, откуда мы тянулись к тебе, то целая часть твоего "я", которую мы несли тебе в дар, навсегда погрузится в небытие”. Так оно и случилось: в дальнейшем мне пришлось испытать то особое наслаждение и тревогу, какие я еще раз почувствовал тогда, и однажды вечером – слишком поздно, но уже навсегда – я к ним прилепился, но что несли мне деревья и где я их видел – этого я так и не узнал. И когда коляска свернула на другую дорогу и я их уже не видел, так как сидел к ним спиной, а маркиза де Вильпаризи спросила, о чем я задумался, мне стало так грустно, как будто я только что потерял друга, или умер, или забыл умершего, или отошел от какого-нибудь бога».