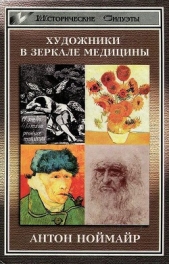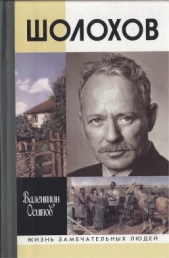Художники

Художники читать книгу онлайн
Свою книгу С. Дангулов назвал "Художники". Эта книга о мастерах пера и кисти. Автор словно вводит читателя в портретную галерею: М. Шолохов и А. Гончаров, Н. Тихонов и Кукрыниксы, М. Шагинян и В. Мухина, К. Симонов и Е. Кибрик, Р. Гамзатов и Н. Жуков... Здесь же портреты зарубежных мастеров - французского писателя Труайя и япопского архитектора Танге, итальянского писателя Дзаваттини и венгерского скульптора Маргариты Ковач. Книга воссоздает жизнь художника, его своеобычное, его новаторское существо. Автор раскрывает взаимосвязь искусств, их взаимовлияние, их взаимообогащение.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Но есть и другое мнение: коллекция является тайным портретом ее собирателя... и подлинная история собрания в этом, — возразил я.
Дзаваттини рассмеялся.
— Но это уже не моя задача...
Возможно, Дзаваттини и прав — не его.
«Картина никогда не бывает продумана и решена заранее, — сказал как-то Пикассо. — В то время, как ее пишут, она следует за изменениями мысли, когда она закончена, она продолжает изменяться в соответствии с чувствами того, кто на нее смотрит. Картина живет своей собственной жизнью, как человек, она претерпевает те изменения, которым подвергает нас повседневная жизнь. И это естественно, потому что картина живет лишь через человека, который на нее смотрит».
Где-то здесь лежит большой смысл того, что сделал Дзаваттини, собрав коллекцию: в этой коллекции его представление о современнике, о дне нынешнем и, быть может, дне грядущем. Что-то здесь уже отлилось и завершилось и останется неизменным навсегда, а что-то еще должно завершиться и обрести смысл. Пусть меня простит читатель за столь необычную ассоциацию, но большая стена галереи Дзаваттини с правильными квадратами картин-миниатюр чем-то мне напоминает таблицу Менделеева: человек еще находился в поиске, чтобы открыть все ее элементы. Именно этот смысл имеет замечание Каррьери, друга Дзаваттини. По его словам, Дзаваттини пишет уже тысячное письмо, чтобы заполнить оставшиеся на его стенах пустоты, и в тысячный раз повторяет сантиметры длины и ширины картины, в которые должен уложиться художник.
Однако если вернуться к мысли Пикассо, то следует сказать, что коллекция собранных Дзаваттини автопортретов, в сущности, является портретом самого Дзаваттини. Да, автопортретом в трехстах багетах. Дзаваттини сообщил своей коллекции нечто такое, что является его миропониманием и мировосприятием, а следовательно, его темпераментом, его вкусом, его характером, чему дал жизнь он и что помогает жить ему, художнику, мастеру кино, писателю.
Писателю?.. Да, разумеется. Быть может, самое время заговорить и о литературе, — кстати, из соседней комнаты идет навстречу сам Дзаваттини вместе с другом своим Биджаретти.
Я смотрю на Дзаваттини и ловлю себя на мысли, что только что узнал о нем нечто такое, чего не знал прежде.
ДУБАЙ
Как часто можно теперь услышать:
— Наше время — время строгих красок. Строгая живопись, скульптура, литература — строгая!
Или еще:
— Великолепный фильм, но в нем есть один недостаток — цветной! Да, цветной, а по всему, должен быть черно-белым — в большей мере отвечало сути, да и впечатление было бы большим!
Орест Дубай не только график, а его стихия не только черно-белая графика. Но я бы хотел говорить именно о графике Дубая.
Минувшей осенью был в Братиславе. Осень стояла необыкновенной: синева зенита и червонный отлив леса, если быть точным, то отлив, богатый на оттенки: охристый, оранжевый, красновато-медный. Великое искушение для художника взять этюдник и уйти в лес, долго идти, приминая опавшую листву, вдыхая запах сухих листьев, отдающих горчинкой и терпкостью... А как Дубай?.. Наверно, и у него есть искушение явить в своих работах многоцветье братиславской осени в красках. Но все, что я видел, относилось к черно-белой графике. Да, это была именно черно-белая графика, но в ней было солнце во всей своей натуральности, а значит, ему сопутствовали краски природы, солнце вызвало цвет. Первая работа Дубая, которую я увидел, прямо обращена к солнцу и, по всему, подсказана гагаринским подвигом. Вихрь света с солнечным диском в центре. Точно сам свет отвердел и превратился в солнце. И в потоке света, объявшего дневное светило, не противясь потоку, а отдав себя его воле, женщина-мать и ее младенец… Все первозданно в образе женщины и ее младенца, все естественно и прекрасно — таким, а не иным сотворила человека природа... Однако о чем говорит графический лист Дубая, в чем философия рисунка? Не хочу претендовать на единственное толкование того, что создал художник, но мне его смысл видится таким: человек и солнце — в этом, только в этом всесилие природы. И кем, как не детищем солнца, всегда был человек. Люди — дети солнца? Именно!.. И, как это было всегда, человек рос и утверждал себя в своеобразном соперничестве с солнцем. Больше того, в своем вечном стремлении достичь могущества солнца человек, казалось, сделал немыслимое: он распахнул двери вселенной и вошел в мир, который извечно был заповедным миром солнца. В этом и великое единство человека и природы, и их нерасторжимость... Помню, что, взглянув на работу Ореста Дубая, я сказал себе: не знаю, как бы прозвучал этот мотив в живописи, но дубаевская тушь поведала об этом с силой завидной. И было в этой работе нечто такое, что делало произведение неординарным: мысль значительная.
...Братислава достопамятной осенью 1982 года: как Орест Дубай? Не иначе, кто-то всеведущий и добрый должен был проникнуть в мои намерения... И вот вечер в доме давнего друга Владимира Лукана, коллеги-редактора и маститого литератора, знатока живописи и ревнивого ее собирателя; как по мановению палочки-кудесницы распахивается дверь: Дубай, конечно... Большой, радушный, очень открытый, с пожатием сильной и твердой руки. Помню, что сказал себе, ощутив пожатие дубаевской руки: настоящее требует сил.
Дом Луканов мне видится открытым домом, в котором всем повелевает закон гостеприимства. В Братиславе шутят: половина здешних журналов делается руками Луканов. Не ручаюсь за абсолютные цифры, но какая-то доля истины в этом утверждении есть. По крайней мере, мои воспоминания о Луканах — это не только память о добрых друзьях, с которыми мы издавна дружим домами, но и память о друзьях редакторах, верных призванию и бесценному для редактора правилу: знание и такт. Но сегодня у Нины, как, впрочем, и у Владимира, задача, в которой есть свои трудные перепады: дать жизнь застолью, а следовательно, и отношениям людей, сидящих за столом, — они хорошо знают хозяев и не столь хорошо друг друга.
Немалое искусство — совладать с неловкостью первых минут и завязать узелок беседы, но хозяева сообщили этому умению некое изящество.
— Да, Орест, конечно, исконное имя, к которому так расположены художники... — смеется Лукан. — Кстати, сын тоже Орест, как, впрочем, и внук... Не династия, а государство: Орестия!..
— Впрочем, по этому признаку подбираю и друзей, — не гася улыбки, откликается Дубай. — В том числе и русских...
— Не об Оресте Георгиевиче Верейском идет речь? — решаюсь спросить я.
— О нем, конечно!.. — охотно подхватывает Дубай.
Все смеются: обряд знакомства совершился.
Потом хозяин приоткрывает дверь в святая святых дома, где экспонирована живопись, которую он чуть-чуть смятенно зовет экспериментальной, и взгляд собирателя обращен на гостей.
— Я — дипломат, я — дипломат... — произносит Дубай и смотрит на хозяйку дома, будто ищет у нее поддержки; улыбаясь, она смыкает веки, думаю, что тут у них больших разногласий нет.
Мы засиживаемся допоздна — в беседе, которая возникает вновь, Дубай не щедр на слово. Если в природе есть Орестия, говорю я себе, то это скорее государство дела, чем слова. Дела, а значит, мысли. Быть на уровне этой мысли — труднейшая из задач, которую может поставить перед собой художник, желающий постичь время. Да, время и мысль — вот это, хочу думать, определило в смысл того графического листа Дубая, с которого я начал свой рассказ о художнике: Мадонна и Солнце.
— Ухватить дух времени и не повториться — это, наверно, самое трудное, — произносит Дубай. — Не повториться, если, разумеется, это в твоих силах... — добавляет он почти весело — понимает, что должен сопроводить эту формулу улыбкой: это прибавит ей убедительности.
Мы расстаемся на грани полуночи — ночь многозвездная, братиславская.
— Я жду вас на своей горе, — произносит Дубай и, протянув руку едва ли не к звездам, на какой-то миг задерживает ее. — Найдете? — спрашивает он. — Это позади музея истории... Владимир поможет вам отыскать, — кивает он в сторону Лукана.