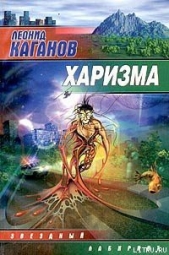Было и будет. Дневник 1910 - 1914

Было и будет. Дневник 1910 - 1914 читать книгу онлайн
Статьи, вошедшие в сборник, в большинстве своем написаны «на злобу дня», однако отражают они не только непосредственную реакцию автора на события литературной, религиозно-общественной, политической жизни начала 20 века, но и его раздумья о вечных исканиях духа, об «основных, всеобъемлющих, все решающих» для России вопросах.
Книга адресована всем, кто интересуется русской литературой, историей, религиозной философией.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Спорили также из-за пайка тюремного. Наполеон уверял, будто его морят голодом. Однажды велел сломать и продать свой серебряный столовый сервиз. А когда начал есть на фаянсе — застыдился.
«Какие мы, однако, дети!» — рассмеялся, опомнившись.
В другой раз не хватило дров, и он велел сжечь свою кровать.
Все это «комедия», как выражался Гудсон Лоу, — последняя маска — маска жалости. «Зрительные трубки всей Европы устремлены на Св. Елену», и вот, безжалостный, хочет разжалобить.
Несчастный губернатор — только козел отпущения. Казнь Наполеона в нем самом: «казнь покоя». Ненасытная деятельность, беспредельная сила, некогда обращенная на мир, теперь обращается на него самого, терзает и пожирает его. «Ты будешь пожирать свое сердце», — как предсказал ему Байрон или, как еще лучше говорит один русский крепостной философ у Тургенева: «Всяк человек себе на съедение отдан».
Не знает, как убить время. Утром валяется в постели или целыми часами сидит в ванне. Читает до одури, лежа на канапе, немытый, небритый, в белом шлафроке, в белых штанах, в рубашке с расстегнутым воротом, без галстука, с красным клетчатым платком на голове. Стол завален книгами, и в ногах, и на полу кучи томов, прочитанных, растрепанных.
Иногда диктует дни и ночи напролет, а потом зарывает в землю рукописи.
Прогулки по острову под наблюдением шпионов ему опротивели. Устроил себе для моциона внутри дома бревно на перекладине и качается на нем, как на деревянной лошадке. Копает грядки в огороде. Приручает ягнят.
В лонгвудском доме комнат 20, но большею частью необитаемых от сырости. Полы из гнилых, плохо сколоченных досок. Множество крыс. Он живет в двух-трех комнатах, маленьких, низеньких, с окнами на английский бивуак, нарочно здесь поставленный, чтобы следить за ним днем и ночью.
В доме соблюдается строжайший этикет. Слуги в ливреях. Обед на серебре и золоте. За столом, рядом с императором — незанятое место ее величества. Придворные стоят навытяжку целыми часами, до обморока.
Однажды кто-то сказал при нем, что китайцы своего богдыхана почитают за Бога.
— Так и следует! — заметил Наполеон.
По вечерам собираются свитские в салоне его величества. Играют в домино, в шашки, беседуют. Он вспоминает молодость.
— После итальянских побед я чувствовал, что земля уходит у меня из-под ног, как будто я лечу…
Умолкает, задумавшись, потом говорит:
— Я скоро буду забыт… Если бы в Кремле пушечное ядро убило меня, я был бы так же велик, как Цезарь и Александр, а теперь я почти ничто…
Делает веселое лицо при скверной игре:
— Карьере моей недоставало несчастья (l'adversité manquait à ma carrière).
Однажды долго сидел молча, опустив голову на руки; наконец, встал и сказал:
— А все-таки какой роман моя жизнь!
И вышел из комнаты.
Вспоминает мечты свои о походе на Индию, о всемирной монархии. Потом, вдруг очнувшись, проводит рукой по лицу и вздыхает:
— В конце концов я ведь только человек!
Иногда читает вслух, большею частью классические трагедии; читает скверно, фальшиво и напыщенно. Особенно любит «Заиру» Вольтера. Она до того надоела всем, что генерал Гургó и госпожа Монтолон [30] хотят выкрасть ее из библиотеки. Слушатели засыпают. Но он следит за ними внимательно.
— Мадам Монтолон, вы спите?
— Гургó, проснитесь же!
В наказание заставляет их читать и, скрестив руки, слушает, но минут через пять сам начинает дремать.
— Какая скука, Боже мой! — шепчет, оставшись один.
«Похож на зверя в клетке, который ходит взад и вперед, не останавливаясь и глядя сквозь решетку дикими зрачками, полными отчаяния».
Шесть лет длилась эта пытка. Наконец заболел. Болезнь началась уже давно, с 1819 года. Ноги пухли, делались головокружения, обмороки. Он думал, что это болезнь печени. Но печень здорова, и доктора не могут понять причины болезни. Начинает писать завещание. А Гудсон Лоу продолжает думать, что все это «комедия» и что Бонапарт здоров как бык.
В течение двух лет становилось то лучше, то хуже. Весною 1821 года болезнь усилилась так, что он понял, что это конец.
Ничего не ел; все время тошнило и рвало. Начались изнурительные поты. Зрение ослабело, не мог выносить света; когда потел по ночам, переменяли белье в темноте, при одной свече в соседней комнате.
«Вот здесь, точно бритвой режет», — жаловался, указывая на правый бок. Все еще думалг что болен печенью. Только в последние минуты понял, что у него та же болезнь, от которой умер его отец, — рак в желудке.
Знал, что умирает, и готовился к этому просто: «дело житейское».
Опять начал писать завещание. Среди тошноты и рвоты диктует множество пунктов, подробных и мелочных, с перечислением сотен предметов и лиц.
27-го апреля, в 6 часов утра, после ужасной ночи с жаром и бредом, запечатывает девять конвертов, перевязанных зелеными и красными лентами, делает собственноручные надписи. Велит принести шкатулки с драгоценностями и выкладывает все на постель: золотые табакерки, бомбоньерки, медальоны, портреты, часы, ордена, кресты Почетного Легиона. Разбирает, кому что в подарок на память.
У одной из табакерок крышка гладкая, без вензеля. Острием перочинного ножика вырезывает тщательно букву N. И тут же рвет его густою, черною, как кофейная гуща, рвотою.
— Отдохнули бы, ваше величество.
— Нет, времени мало, надо кончать…
А когда все уже кончено, диктует донесение губернатору:
«Господин губернатор, такого-то числа, такого-то месяца, после продолжительной и тяжкой болезни, скончался император Наполеон, о чем имею честь довести до вашего сведения…»
И далее: о перевозке тела во Францию.
Все плачут.
— Монтолон, вы подпишите, — говорит он спокойно.
Ну, теперь, кажется, все? Нет, не все.
«Тело во что бы то ни стало вскрыть и сына моего известить, от какой болезни я умер, дабы мог остеречься».
Потом зовет аббата Виньяля, духовника, велит ему устроить над гробом chapelle ardente и поставить чашу с Дарами на алтаре, в головах. Количество свечей, порядок заупокойных обеден, поминовений, сорокоустов — все определяет в точности.
Ни во что или почти ни во что не верит, но религия тоже «дело житейское»: хочет, чтобы все было «в порядке, как следует».
Кажется, нельзя умереть проще, обыкновеннее. «Антихрист», «злодей», «изверг рода человеческого», а умирает, как обыкновенные добрые люди. «Он был ко всем добр и прост до последней минуты», — вспоминают очевидцы (Marchand, Montholon). Ни малейшего угрызения совести. И ни одной мысли о том, что будет там. Всю жизнь любил здешнее, только здешнее, и до конца любит, — до конца, а может быть, и без конца?
На рассвете 5-го мая, уже в агонии, произносит несколько невнятных слов:
— Франция… армия…
Вдруг вскакивает и бросается вон из постели. Монтолон хочет его удержать. Они борются и оба валятся на пол. Умирающий так сжал ему горло, что он едва не задохся и не мог позвать на помощь. Наконец из соседней комнаты услышали шум, прибежали, подняли, разняли их и уложили его в постель. Он уже больше не двигался. Это была последняя вспышка той силы, которая перевернула мир.
На дворе выла буря. Ветер ломал и вырывал с корнем деревья.
В 5 ч. 49 м. вечера, как раз на заходе солнца, он испустил последний вздох на маленькой железной походной кровати с четырьмя серебряными орлами по углам, на которой спал в ночь накануне Аустерлица и Маренго, и тело покрыли тем же серым плащом, который он тогда носил.
Мертвое лицо его было спокойно, как будто не умер, а спал. На губах улыбка; только в левом углу рта «саркастический смех».
Похоронили тут же, на Св. Елене, в Долине Гераниумов, близ родника, под двумя плакучими ивами, где он любил сидеть.
Гудсон Лоу и маршал Бертран [31] заспорили о надгробной надписи:
«Наполеон Бонапарт» или просто «Наполеон»? Так и не могли согласиться, и могила осталась безымянною.