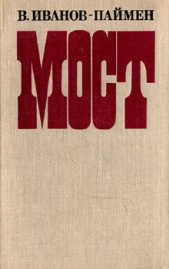О значении Иванова в русском искусстве

О значении Иванова в русском искусстве читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
VI
Факты, представляемые жизнью и, в особенности, перепискою Иванова, так разнообразны и многочисленны, что я не имею, конечно, возможности исчерпать их здесь все. Но, мне кажется, уже и то, что я успел до сих пор привести, достаточно и полно обрисовывает его личность.
На мои глаза, Иванов — одна из величайших художественных личностей, когда-либо появлявшихся на свете, и вместе — одна из самых крупных и необычайных личностей русских. Если даже оставить на минуту в стороне мысль о том, что Иванов был живописец, все-таки он представляется человеком совершенно выходящим из ряду вон. Сила мысли, сила характера, золотая душа, заботливое попечение не только о близких, но и о самых далеких людях, кому он мог быть полезен, строгость жизни, необыкновенная серьезность настроения, поэтичность и глубина всяческого постижения, презрение к внешним выгодам самолюбия и наживы, отсутствие эгоизма, бесконечная неподкупная справедливость ко всем, в тем числе к людям, совершенно противоположного себе направления, и, вместе с тем, непримиримая ненависть к тому, что низко и мелко, непримиримая и самая мужественная вражда с бездарностью, прозой и животностью, поразительная правдивость, искренность и наивность; наконец, беспредельная любовь к родине и посвящение всего себя будущему ее возвышению и просветлению — какое соединение в одном человеке самых редких, самых дорогих и необыкновенных качеств!
Но прибавьте к этому ту черту, которая чудесною нитью проходит сквозь всю жизнь Иванова, — жажду самоусовершенствования и изошедшее из нее развитие, никогда не останавливавшееся даже и в те годы, когда большинство людей говорит себе: «довольно!» — и ложится на ленивый, недостойный покой, — и перед нами возникнет личность, которая принадлежит к числу самых утешительных и высоких явлений не только одного нашего, но и всех других столетий.
Если, затем, мы обратимся к Иванову как художнику, то мы открываем, что здесь Иванов состоит из двух крупных половин: Иванов до 1848 года и Иванов после 1848 года.
До своего переворота Иванов был наполнен множеством ложных понятий и предрассудков. Как ни светла была, по натуре, голова его, а все-таки рождение в старинном патриархальном семействе, воспитание в стенах заведения, способного развивать только механическую технику и ничего не подозревающего об интеллектуальном, внутреннем человеке, наконец, долгое пребывание в Италии среди маленького кружка людей, из которых одни были талантливы, другие умны и образованы, по-своему даже люди мысли, но которые, все вместе взятые, ничуть не принадлежали к европейской современности и прямо должны быть признаны людьми безусловного консерватизма, — все это не могло не влиять задерживающим и даже несколько пагубным образом на Иванова. Выбор однотонных сюжетов, преданность лишь одному и тому же известному кругу идей, как в религиозном, так и в некоторых других направлениях, должны были неминуемо быть результатом таких неблагоприятных условий. Вместе с тем, посеянное с ранних лет как бы идолопоклонническое благоговение перед «недосягаемостью» двух эпох искусства, греческой старого мира и итальянской XVI века, тоже наложило на него печать свою, не только сильную, но даже неизгладимую, и на всю жизнь. Как мы видели выше, не более как за несколько месяцев до смерти своей, Иванов писал в одном письме, в высшей степени искреннем, как всегда, что в своей главной картине «желал показать, до какой степени русский понимает итальянскую школу — домогался в ней, преимущественно, подойти, сколько можно ближе, к лучшим образцам этой школы, подчинить им русскую переимчивость и составить свое». Какая еще неважная и недостаточная цель для такого ума и таланта, как Иванов! Стоило на такую «преимущественно» задачу употребить столько лучших лет своей жизни, хотя бы даже с одной технической стороны!
Однакоже, так именно и случилось. Что делать? Остается только глубоко сожалеть об этом. И, однакоже, обе картины Иванова, обе единственные его картины, полны громадных совершенств.
«Явление Христа Магдалине» — картина еще наполовину академическая, полная избитых, почти рутинных мотивов. Христос этой картины очень ординарен и неудачен — и лицом, и телом, и драпировками своими. В Магдалине одно только превосходно: это — глубокое чувство, выраженное в заплаканных и вдруг обрадовавшихся глазах. Все остальное — посредственно.
Вторая (и последняя) картина Иванова: «Явление Христа народу» — уже совершенно другое дело. Здесь Иванов поднялся на громадную вышину и создал такое произведение, которому подобного не только никогда не представляло до тех пор русское искусство, но которое во многом достигло высших пределов, каких достигло итальянское искусство XVI века, т. е. высшее искусство старинной Европы.
Иванов занят был этим сюжетом еще с юношества: ему было двадцать два года, когда он писал своему дяде Демерту в 1824 году: «Я теперь оканчиваю „Иоанна Крестителя, проповедующего в пустыне“; шестнадцать лет позже он принялся за ту же картину, но уже в громадных размерах и писал ее целых двенадцать лет (1836–1848). Ему казалось, что ничто не может быть выше и значительнее этого сюжета: уже в декабре 1835 года он писал Обществу поощрения художников, что этот предмет, занимавший его с давнего времени, „сделался теперь единственною его мыслью и надеждою“.
Иванов никогда не достиг великолепного колорита старых венецианцев, Тициана и других, на что так надеялся и о чем так постоянно хлопотал: кто не родился колористом, тот им, конечно, не сделается, несмотря ни на какие старания и усилия. В этом, впрочем, Иванов разделяет общую участь новых народов: не то, что у нас русских, но и у других народов Европы, вот уже лет триста не является талантов по части колорита, не только подобных старым венецианцам, но и просто крупных талантов по этой части. Значит, корить одного Иванова, преимущественно перед всеми другими, еще нельзя. Притом же сам Иванов, даже в 1858 году, считал свою картину „далеко неоконченного“ и привез ее в Россию, принуждаемый к тому недостатком средств и сильно пострадавшим зрением.
Но, кроме колорита, все остальное в его картине представляет ряд совершенств, высоко возносящих и его самого, и его создание в ряду художников и художественных творений, признаваемых повсюду наисовершеннейшими и наивысочайшими.
Нельзя не видеть разных недостатков картины Иванова — они бросаются в глаза. Так, например, крест в руках Иоанна Крестителя, присоветованный классиком Торвальдсеном, „мантия“ на нем, присоветованная пиэтистом-классиком Овербеком, портят общее впечатление. Затем мудрено также похвалить общее расположение фигур, которое имеет вид как будто бы скульптурный, почти барельефный; эту массу народа, искусственно пригнанную и сгруппированную на узком (в плане) и продолговатом пространстве; далее искусственно, хотя и чудесно, и изящно расположенные складки драпировок (например, на Христе, апостолах Иоанне и Андрее, и на еврее с косами на голове, в правом углу картины). Но разве эти самые недостатки не присутствуют у наивысших, наиталантливейших итальянских живописцев XVI века, даже у Рафаэлей, Леонардов да Винчи и прочих. Разие римские „Афинская школа“, „Disputa“, „Гелиодор“, „Аттила“ и гамптон-кортские картоны, разве сикстинский плафон и „Страшный суд“, разве миланская „Тайная вечеря“, наконец, сотни „Святых семейств“, где богоматерь с младенцем Иисусом сидит на троне, даже под балдахином, а около нее направо и налево помещаются очень регулярно разные священные личности, — разве все это не картины, расположенные скульптурно, почти барельефно, на узком, сжатом (в плане), продолговатом пространстве? Разве все эти, часто и в самом деле талантливые создания не признаются все-таки необычайнейшими и непостижимейшими творениями человеческого духа и таланта? Разве драпировки самых наилучших из числа этих картин, считаемых перлами искусства, не расположены очень преднамеренно и искусственно, — что, впрочем, не могло иначе и быть, так как никто таких одежд не носит, и живописец, никогда не видавший их употребления в жизни, должен из собственной головы выдумывать и прилаживать небывалые складки.