Публицистика 1918-1953 годов
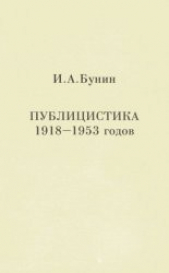
Публицистика 1918-1953 годов читать книгу онлайн
Книга включает в себя все выявленные на сегодняшний день тексты публицистических статей И. А. Бунина за период с 1918 по 1953 год. В большинстве своем публицистика И. А. Бунина за указанный период малоизвестна и в столь полном составе публикуется у нас впервые. Помимо публицистических статей И. Бунина в настоящее издание включены его ответы на анкеты, письма в редакции, интервью, представляющие как общественно-политическую позицию писателя, так и его литературно-критические высказывания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Извозчик, ты смерти боишься?
И извозчик машинально отвечал дураку барину:
— Смерти? Да чего ж ее бояться? Ее бояться нечего.
— А немцев — как ты думаешь, мы одолеем?
— Как не одолеть! Надо одолеть.
— Да, брат, надо… Только вот в чем заминка-то… Заминка в том, что царица у нас немка… Да и царь — какой он, в сущности, русский?
И извозчик сдержанно поддакивал:
— Это верно. Вот у нас немец управляющий был — за всякую потраву полтинник да целковый. Прямо собака…
Вот вам и готова твердая уверенность, что наш «мужичок мудро относится к смерти» и непоколебимо убежден в победе. Вот вам и чудо-богатырь, и «богоносец», и «Христолюбивый простец», который, «если бы его не спаивали да не держали бы в рабстве»…
Думали и твердили все поголовно, с детской восторженностью, в начале марта семнадцатого года: «Чудо, великое чудо! Бескровная революция! Старое, насквозь сгнившее рухнуло — и без возврата!»
Что? Богоносец? Чудо? Бескровная?
Трезвый «богоносец» сотворил такое бескровное чудо, перед которым померкли все чудеса, сотворенные им во хмелю. Толки о чуде оказались чудовищными по своей легкомысленности и недальновидности. Да и насчет старого ошиблись. Старое повторилось чуть ли не йота в йоту, только в размерах, в нелепости, в кровавости, в бессовестности и пошлости еще неслыханных. Нет, «не прошла еще древняя Русь»! Я утверждал это упрямо в свое время, утверждаю и теперь, — увы, с еще большим правом.
На всех перекрестках твердили: «В русском народе произошел огромный сдвиг, он растет не по дням, а по часам. Пришла великая война — взгляните, как сознательно встал он во весь рост на борьбу с немецким милитаризмом! Совершилась величайшая в мире революция — и взгляните: ни капли крови! Да здравствует война до победного конца! Да здравствует раскрепощенный солдат гражданин!»
Вот тебе и «сдвиг», и «во весь рост», и «ни капли крови», и «солдат гражданин», раскрепощенный по указу № 1, авторами которого были — какая опять ужасающая нелепость! — какой-то Стеклов-Нахамкес и какой-то адвокат Соколов, которому месяца через два после того, на фронте, куда он поехал уже военным комиссаром, один из этих солдат граждан так ахнул ведром в голову, что он был, по газетным известиям, «ниже пояса залит кровью»… Бог меня прости, я, помню, написал тогда на газете: «Прочел с удовольствием!»
Случилось то, чему не подберешь имени. И это случившееся можно было предугадать, и мы его не предугадали, да и не желали предугадывать.
Когда англичане еще воевали в союзе с нами против немцев, в Англии выходили книги о русской душе, — так они и назывались: «Душа России», — когда многие англичане думали, что революция брызнет живой водой на Россию, удвоит ее силы на одоление врага, мне попался в руки какой-то английский журнал и в нем такая картинка из русского быта: много снегу, на заднем плане — маленький коттедж, а на переднем — идущая к нему девочка, в шубке и со связкой учебников в руке; и коттедж этот, как оказалось при ближайшем рассмотрении, изображал русскую сельскую школу, а девочка — ученицу этой школы, и имела эта девочка, как гласила подпись под картинкой, следующее престранное для девочки имя: «Петровна». А вскоре после того я виделся с покойным Кокошкиным. И Кокошкин, убитый так бессмысленно, так скотски, с тем зоологическим спокойствием, которое не раз подчеркивалось мною в моих изображениях русских убийств и которое казалось таким возмутительно выдуманным чуть не всем моим тогдашним читателям, — Кокошкин, с которым мы разговорились о русском народе, сказал мне со своей обычной корректностью и на этот раз с необычной для него резкостью:
— Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались — ну, извините, слишком исключительными, что ли…
И, помню, с каким удивлением и почти ужасом думал я, возвращаясь домой после этого разговора:
«Да что ж это такое? Чем это лучше „Петровны“? Англичанам, конечно, отчасти простительна „Петровна“, но нам? Какое младенческое неведение или нежелание ведения относительно своего собственного народа, который как раз теперь призван к участию в судьбах Европы и о горячей, сознательной готовности которого участвовать в них уже сказано искренними Кокошкиными и сотнями других, гораздо менее искренних, столько ошибочных и просто обманных слов! Нет, это нам даром не пройдет!»
И точно — не прошло. От копеечной свечки Москва сгорела. В домах деревянных, крытых соломой, играть огнем особенно опасно.
…Случилось то, что должно было случиться в стране полудикой, полуазиатской, и уж если употреблять это вульгарное слово «большевизм», то случился именно большевизм, которым не только продолжалось, но и началось дело. Еще в семнадцатом году сказал генерал Деникин, что налицо форменное помешательство народа, что армии уже нет, что она вконец разложена Временным правительством. Еще в семнадцатом году газеты, все эти «Власть народа», «Дело народа», «Воля народа», «Новая жизнь», «Новое слово», на одной полосе печатая хвалы народу и революции, т. е. почти то же, что печатают подобные им и до сей поры, на другой полосе о власти, о делах, о воле народа и о его новой жизни писали с ужасом, сообщали о каждодневных грабежах, погромах и пожарищах, о сожжении мужиками своих провинившихся односельчан на кострах, — «власть народа» в самом деле уже была тогда, в том смысле, что тогда буквально каждый вообразил себя властью, — сообщали о зарывании в землю живых людей, о пытках при допросах в разных «советах рабочих и крестьянских депутатов»… Мы не с октября, а с самого марта семнадцатого года пребываем в этом мраке, этом дурмане, дурмане злом, диком и, как всякий дурман, прежде всего переполненном нелепостями, на этот раз нелепостями чудовищными. И дурман этот еще длится, и человек, более или менее не поддавшийся ему, поминутно с ужасом и с изумлением протирает глаза. Кровь продолжает течь реками, — нелепейшая в мировой истории, колоссальная война между русскими, между двумя огромными русскими армиями, одна из которых идет под высоким водительством бывшего газетного корреспондента, еще в полном разгаре… Английский композитор Коутс, недавно бежавший из Петербурга, сообщает, что в прошлом феврале в Петербурге умерло от голода восемь тысяч человек, и в то же самое время оперы, концерты были битком набиты матросами, солдатами, перед которыми артисты пели, едва держась на ногах от голодного головокружения… В Москве на днях в одну ночь убито семьдесят семь общественных деятелей, принадлежавших к цвету русской интеллигенции… А Вильсон, точно младенец, не имеющий ни даже малейшего понятия ни о мере, ни весе, проводит параллели, сравнения, от которых можно прийти в исступление ярости: «О да, теперь я вижу, русское советское правительство еще более жестоко, чем царское…» А социалистический конгресс, недавно заседавший в Люцерне во главе с нашим Церетели, царственно постановил, что «вмешательство во внутренние дела России» недопустимо ни в каком случае… Что это такое? Что за сумасшедший сон среди белого дня? А наши газеты приветствуют постановление этого конгресса, а наши газеты, извергая громы и молнии по поводу этих семидесяти семи убийств, все время восклицают: «Какое попрание интересов демократии! Страшно за демократию!» Что это такое? При чем тут «демократия»? Почему только за «демократию»?
И ведь все, все так; все повергает в изумление, все мутит разум. Голова постоянно полна не только страшными и нелепыми известиями, только что узнанными, но и столь же страшными и нелепыми воспоминаниями. Бывало, читаешь утром: «Да, мы верим в русский народ и его революцию, — сермяжный гражданин, отныне державный хозяин земли русской, крепко стоит на страже ее, крепко держит в своих мозолистых руках ее священное знамя!» А что видишь в полдень, выйдя на деревню? Сидит возле избы солдат-дезертир, курит и напевает: «Ночь темна, как две минуты…» Что за чушь? Что это значит — как две минуты? «А как же? Я верно пою: как две минуты — здесь делается ударение». Еще глупее! Какое ударение? И все это в семнадцатом, роковом для России году, и это тот самый русский солдат, которого Верховный главнокомандующий из адвокатов так долго и так по-товарищески вдохновлял на борьбу с немецким империализмом, а он, этот товарищ солдат, преспокойно перебил сотни своих офицеров вместо немецких, преспокойно швырнул этому империализму тридцать пять своих губерний да на целые миллиарды военного имущества и поспешил домой, в надежде стать обладателем одной барской десятины, по дороге искалечил сотни паровозов, заколол штыком несколько десятков начальников станций, не поспевших мгновенно подать ему поезд, вдребезги разнес все стекла в вагонах, ободрал все вагонные диваны, завернул по дороге в свой уездный город, случайно поймал там воинского начальника, проломил ему камнем голову, разул его и весь день с гоготом водил его, босого, по городу, — бьет бутылки и заставляет плясать по стеклу! — а затем посидел дома на завалинке, покуривая, поплевывая и говоря: «А мне один черт — под немца, так под немца!» — а затем, обкладывая бранью «жида» Керенского, будучи в душе лютым жидоедом, выбрал в Петербургскую думу Шрейдера, в Московскую — Минора, в Елецкую — Лапинера, в Курскую — Соловейчика и так далее и так далее, кричал «ура» идиотке и кликуше Спиридоновой, отлично видя, что она идиотка и кликуша, — и все за что? — за то, что «землю сулят, волю мне полную во всем дают», — переименовал все «Вшивые горки» в Карл-Маркс-Штрассе, нагадил во всех дворцах, повалил чуть ли не все свои исторические памятники, расстрелял «за хорошее жалованье» свою Москву, свой Ярославль, убил Духонина, одобрил кивком головы Брестский мир, где за великую Россию расписался репортер Карахан, убил Корнилова, убил и утопил в Неве за одного Урицкого тысячу ни в чем не повинных людей, — «ровно тысячу», как с торжеством писала «Красная газета», — перебил и потопил, короче сказать, столько, что два года читаешь изо дня в день: «трупы в Черном море, трупы в Волге, в Каме, в Днепре…», — понаделал, одним словом, столько дел, что сам сатана не исчислит сразу все низости, все злодейства и все нелепости этого революционера, который еще вчера валялся на печи, мусором голову пересыпал, из косточки в косточку мозжечок переливал, а завтра, после всех славных похождений, начнет скулить, оправдываться: «Я что ж, я дурак, я баран, что Илья, то и я, это меня ребята сманули, это меня жиды подучили…» Бог мой, что было бы наконец с нашими душами, с нашим разумом, если бы не стало проглядывать небо среди этой дурманной мглы!


























