Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015
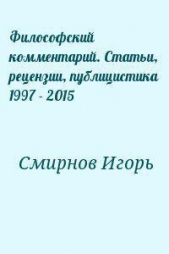
Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нас поджидает множество обстоятельств, в которых происходят окказиональные преступления. Облигаторна же криминогенность только тогда, когда есть персональная предрасположенность к ней. Чем еще занят делинквент, как не захватом помимо него наличного, то есть объективно имеющегося времени в личную собственность? Отклонения от нормы, принимающие рецидивный вид, по самой своей природе индивидуальны, а если перед нами организованная преступность, то за ней стоит сговор отдельных лиц, намеренно исключающих себя из правового поля (о социальности вне закона еще будет сказано ниже). Каков душевный склад преступной личности — особый вопрос, подробный ответ на который выходит за рамки моей статьи. Замечу только: дарение — такое событие, которое означает для адресата этого акта, что до того прожитое им время было благонаправленным, текущим к сувениру, заслуживающим удержания в памяти, тогда как все, зачеркивающее дарение (побои, испытанные в детстве, невнимание родителей к ребенку, перенесенная им утрата любимых предметов и многое прочее), травмирует психику, разрушает ее когерентность, подавляет ее историзм, требует от «я» быть отторгнутым от когда-то развергшейся катастрофы. Преследующий преступную цель борется с обделенностью, со своей детской травмой, одаривает себя сам, избывает душевную нищету, силой и хитростью принуждая Другого стать донатором.
Первообраз благодеяния — попечение о захоронениях, дающее умершим новую — духовную — жизнь в мемориальном коллективном воображении. Первообраз злодеяния — устроение помех в отправлении заупокойного культа, внесение дефекта в коллективную память: такое вредительство учинил Сет, разбросавший части тела убитого Осириса. В византийском житии Андрея Юродивого (конец IX — начало Х в.) святому (= избраннику, которому свыше предначертано быть дарителем, творить чудеса) противостоит, среди прочих, «тать гробный», пытавшийся разграбить могилу. Этого рода воровской промысел относится к разряду древнейших преступлений. Захоронение — наиболее ранняя из всех оградительно-защитных мер, предпринимаемых социокультурой, закон до закона, антропологическая протоконституция. Тело погребенного Христа бесследно исчезает, знаменуя тем самым отмену, по апостолу Павлу, закона благодатью. Преступник некрофиличен, как и блюстители нормы с их почитанием предков и кладбищенскими сентиментами. Но вместо того чтобы даровать жизнь мертвым, воскрешая их хотя бы мысленно, он отбирает ее в свое пользование у тех, кто еще пребывает здесь и сейчас.
Расстояние, разделяющее закон и кровную месть, не столь велико, как о том говорится в «Мире как воле и представлении» (1819, 1844). Шопенгауэр, несомненно, прав, указывая на превентивную функцию закона, развернутого в будущее в оппозиции к мести, обращенной к прошлому наравне со всем традиционным обществом, в котором она практикуется. Но как санкционирующий наказание закон подчинен тому же принципу «око за око», что и jus talionis. Подвергая преступника каре, закон озеркаливает заупокойный культ, приговаривает ли он осужденных к казни или погребает их заживо в застенках, проницательно названных Достоевским «мертвым домом».
Раздача (беднякам, церкви) неправедно нажитого не просто облагораживает разбой, но и включает кару за преступление в его состав. Между полюсами дарения и преступления располагаются промежуточные явления, смешивающие противоположности. Так, взятка коррумпирует дарение, а преступление гасится в исполнении воинского долга, предполагающего готовность солдата отдать жизнь за родину. Разрешенное убийство (разыгрывающееся на поле брани, в ордалиях или на аристократических дуэлях) — один из приемов, с помощью которого homo socialis доказывает свою невинность, возлагая ответственность за преступления на индивидов, не вписывающихся даже в общество, которое узаконивает агрессивность. Можно, пожалуй, утверждать, что общество само-определяется постольку, поскольку подозревает индивидное в злоумышлениях. Homo socialis превозмогает человека не в его естественном, а скорее в противоестественном состоянии, в качестве самости со всеми ее психическими особенностями и странностями. Калечащий подростков обряд инициации в архаических коллективах был призван, среди прочего, наказать и стигматизировать тех, чья психика лишь могла бы стать криминогенной еще до того, как преступление и впрямь совершилось.
Кроме предупредительного наказания без вины виноватых социум использует и многие иные инструменты, предназначенные воспрепятствовать переходу потенциальной преступности в актуальную. Надо думать, что суп для бездомных — более надежное средство для уменьшения криминальной опасности, нежели расставленные на каждом углу камеры видеонадзора, не помешавшие терактам, предпринятым исламистами в Париже и убийцами Бориса Немцова у стен московского Кремля. Наиболее эффективное предотвращение преступлений — пожертвование государством своих накоплений населению в форме повышения пенсий, понижения налогов, взятия на себя расходов по обучению молодежи, оказания помощи многодетным семьям. [7]Что эти милости и щедроты имеют профилактическую функцию, минимализуя криминогенность, не бросается в глаза тем, кто их инициирует, то ли руководствуясь идеей социальной справедливости, то ли охотясь за голосами избирателей. Комплементарность дарения и преступления открывается не социальному сознанию, а художественной интуиции, индивидуализованному видению вещей. После романов о преступлении («Отчаяние», 1932) и наказании («Приглашение на казнь», 1935) Владимир Набоков пишет «Дар» (1938) — текст, центральный герой которого получил в детстве всё, о чем только смел мечтать, и как раз по этой причине оказался способным к творческой самоотдаче.
Наследуя мифу, индивидуализуя его архетипическое содержание, искусство всегда проявляло повышенный интерес к преступности, а начиная с романтизма, когда возвращение к первоистокам обрело эпохальное значение, даже демонически отождествило себя с ней в проведении аналогии между отклонениями от закона и от эстетических предустановлений. Общество ограждает себя цензурой, выводящей из оборота шокирующие его художественные тексты, точно так же, как оно охраняет себя уголовным кодексом. Ослабление цензурных запретов как будто предоставляет свободу артистическому воображению, на самом же деле отнимает у него претензию на производство сенсаций, возможность становиться социально релевантным событием, потрясающим реципиентов.
Между тем искусство трансгрессивно иначе, чем криминальный поступок. Оно вырывается за свои пределы, оставаясь собой; вернее, его суть заключается в том, чтобы придать переходу через границу повторяемость, в каковой оно находит самообоснование. Клаузула в стихотворной речи ставит заслон ее развертывaнию, но оно продолжается из строки в строку, всякий раз преодолевая это препятствие. Девочка, порхающая над разлинованным мелом асфальтом, сообщает нам об искусстве, играя в «классы», больше, чем иные философские трактаты. Дело не исчерпывается техническими приемами. Выдавая мыслимое за действительно существующее, художественное творчество релятивизирует разделительную линию между тем и другим — фундаментально важную для социокультурной деятельности. Репетитивность, какую бы форму и какое бы содержание она ни принимала в искусстве, структурируя его и служа его индикатором [8], устанавливает эквивалетность областей, лежащих по обе стороны некоей границы. Перешагивание рубежа видится художнику с позиции если и не отрешенной от дифференциаций, то все же возвышающейся над ними. Искусство метатрансгрессивно. Оно вольно, таким образом, реферировать к любой трансгрессии — психической, сексуальной, моральной, в том числе и к преступной, привнося в эти ситуации эстетический смысл или, напротив, резервируя его для себя, вразрез с тем, что оно изображает в качестве недолжного. В своей метатрансгрессивности искусство оппонирует философии, которая стремится отыскать ультимативную, более не сдвигаемую, непроходимую границу (различающую сущностное и явленное, всеобщее и частноопределенное, бытие и бытующего и т. п.).























