Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015
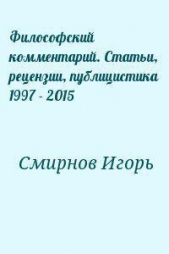
Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Разрешенный разбой. Из только что сказанного будет теперь легко перейти к тому привнесению преступности в норму, у истоков которого стоят Джон Локк (во «Втором трактате о правлении» (1689) он вдвинул самосуд в центр естественного права) и Дэвид Юм, утверждавший в эссе «О первичном договоре» (1748), что государственная власть ведет родословную из насильственного захвата господства в обществе разбойничьей бандой (поэтому закон, охраняющий личное имущество, защищает примарность произвола, что усвоил себе Пьер Жозеф Прудон, уравнявший собственность и кражу).
Хотя Чезаре Беккариа («О преступлениях и наказаниях», 1764) трактовал естественное состояние, по отказному контрасту с Локком и Юмом, в духе «Левиафана», и он не был безоглядным сторонником Гоббса. Не гнушаясь в самообороне самыми жестокими карами за ослушания, государство превышает свои властные полномочия и тем самым восстанавливает status naturalis. Норма и отклонение от нее у Беккариа не просто относительные понятия — в его восприятии сам закон вершит беззакония (особенно в том, что касается смертной казни). В Англии это неприятие юридической и пенитенциарной практик было поддержано Уильямом Годвином («An Enquiry Concerning Political Justice», 1793), который обвинял государство в том, что своими драконовскими штрафными мерами оно-то и множит преступность.
В легитимности государства и в его праве насаждать норму усомнился уже Век Просвещения, пусть кризис этатизма и добрался до пика, по диагнозу Плесснера, в следующем столетии. Тогда как в двух рассмотренных выше парадигмах преступность источают либо прошлое, либо настоящее, криминализация закона осуществляется из будущего — оттуда, где иссякает изменчивость, а вместе с ней и противостояние регламентированных и девиантных действий. Годвин критиковал репрессивную опеку государства над гражданами (словно бы те были детьми), отправляясь от картины такого будущего, в котором общины, расселяющиеся на малых территориях, возьмут под надзор каждого из своих членов, что искоренит преступность.
Трактат Годвина подготовил идейный плацдарм для пустившегося в 1840-х гг. в рост европейского анархизма, который в умеренных своих формах призывал к гражданс-ко-му неповиновению властям, а в экстремальных — к союзу революционного подполья с «лихим разбойничьим миром», как выражался Сергей Нечаев в «Катехизисе революционера» (1869).3 Демаскирование неправедности закона, занимавшее умы Беккариа и Годвина и все еще увлекавшее Льва Толстого («Царство Божие внутри вас», 1890—1893), преобразуется в анархизме крайних толков в узаконивание преступности — ведь народное восстание, по словам Михаила Бакунина («Государственность и анархия», 1873), «…предполагает <…> растрату и жертву собственности своей и чужой». [4]
Учение о праве на вседозволенность было наиболее основательно разработано Мак-сом Штирнером. В «Единственном и его достоянии» (1844) он окрестил все ценности высшей пробы (Бог, государство, родина, общество и т. д.) «привидениями», признав реальной, не головной данностью только Эго. Как отрицание всего, что «не-я», самость нуждается не в свободе «быть» (она всегда уже есть), а во владычестве, не терпящем никакого суда над собой, ставящем насилие над законом. Предпринятая Штирнером апология «преступника от рождения» отозвалась в европейской философии долгим эхом, перекаты которого еще не оценены по достоинству. Объявляя одним из «призраков» всеобщность закона и легитимируя исключительность как modus vivendi самости, Штирнер во многом предвосхитил юридическую теорию «чрезвычайного положения», обнародованную Карлом Шмиттом в начале 1920-х гг. Мысль Штирнера о том, что о преступлении можно говорить, только если верить в святыни, которых на самом деле нет (этот тезис оспаривает Гегеля, сакрализовавшего право), побудила Жана Бодрийара назвать бесследно-ненаказуемым любое нападение на символический порядок, не более чем симулятивный («Совершенное преступление», 1995).
«Генеaлогия морали» (1887) и «Сумерки идолов» (1888) — сочинения, в которых Фридрих Ницше суммировал идеи, варьировавшие скепсис относительно законопослушания и смешивавшие наказание с преступлением. Государство у Ницше в pendant Юму учреждается «стаей белокурых хищников». Ницше, как и Годвина, возмущает зло расправ над преступниками, внушающих людям чувство вины, каковое делает человека «больным животным». Вслед за «Единственным и его достоянием» «Сумерки идолов» квалифицируют преступника как «сильную» личность, восстающую против ущербного общества. Правда, Ницше ссылается при этом не на Штирнера, а на «Записки из Мертвого дома» (1862). Дело, однако, в том, что в повествовании о каторге Достоевский изображал преступления, принимая во внимание в целом ряде случаев философию Штирнера (что особенно заметно на примере Баклушина, убившего немца, жениха своей возлюбленной, только за то, что тот полагался на нерушимую святость закона). [5]Не слишком охотно раскрывавший первоисточники своих текстов Ницше предпочел завуалировать наследование Штирнеру той художественно-документальной иллюстрацией его посылок, ко-торую нашел в «Записках…». Сводя воедино разных предшественников, Ницше, коррелятивно с этим, планирует будущее, из которого бросает взгляд на проблему преступления и расплаты за него, в максимальном (трансгуманном) охвате — как не имеющее точек соприкосновения с человеческой историей.
Еще один — постницшеанский — виток в превращениях того идейного комплекса, что был пущен в оборот Локком и Юмом, — такая реинтерпретация карательных и насильственных мер, которая допускает их применение к лицам, вовсе неповинным. Коль скоро юридические установления грешат имманетным им произволом, они могут быть повернуты как угодно, выбирая себе жертвы по усмотрению тех, кому принадлежит власть, а не отвечая на действительные пренебрежения нормой. Так революционный террор, подразумевающий дозволенность преступления, становится пореволюционным, государственным, частично или даже полностью (как в сталинизме) отрицающим понятие ненаказуемости. Лев Троцкий оправдывал в книге «Терроризм и коммунизм» (1920) принудительный (в сущности, каторжный) труд, к которому большевики обязывали обывателей, условиями Гражданской войны и господства армии и ее организационных методов в жизни страны. Что представители старого режима не защищены от физического уничтожения, Троцкий объясняет и мотивирует исторической обреченностью буржуазии как класса на гибель. Будущее исчезновение буржуазии предвосхищается сегодняшним террором. Оно уже грянуло, будущее.
В том же 1920 г., когда Троцкий издал величальную террору, Вальтер Беньямин на-писал несравненно более глубокий текст на ту же тему («К критике насилия»), во всю казуистическую сложность которого здесь не место вдаваться. Скажу только, что для Беньямина насилие не организационная проблема, актуальная здесь и сейчас, как для Троцкого, а вечная — непреходящая постольку, поскольку человеку приходится упорядочивать мир, подчинять его себе. Государство не более чем продолжает насаждение границ мифом, отправляющим насилие над «голой жизнью». «Всеобщая стачка» Жоржа Сореля, мифологизировавшего в 1908 г. насилие в виде катастрофы социальной длительности, указывает, согласно Беньямину, на пределы институционализованной власти, а не отменяет их вовсе. Такому недостаточному бунтарству дóлжно противопоставить «божественный» террор, стирающий границы, не приносящий, а приемлющий жертвы, низвергающийся не на «голую жизнь», а на самое витальность и тем самым не навязывающий ей неравенство, то есть ради нее как таковой и осуществляемый. Революционное насилие, не озабоченное никаким правостроением, божественно по природе (возможно, Беньямин переворачивает в этой пуанте своей статьи мысль Жозефа де Местра о революции как о негативном чуде, творимом Всевышним, дабы преподнести людям ужасающий урок). Умудренный опытом карательного этатизма, выросшего из революций в Баварии, Венгрии и России, Беньямин отнимает у государства монополию на самоуправство, но ведь человек, божественно бунтующий, не может стать бытующим.























