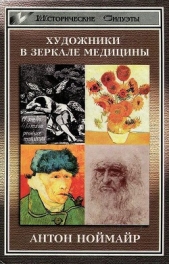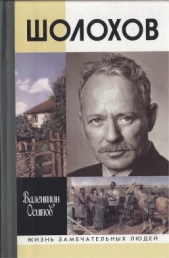Художники

Художники читать книгу онлайн
Свою книгу С. Дангулов назвал "Художники". Эта книга о мастерах пера и кисти. Автор словно вводит читателя в портретную галерею: М. Шолохов и А. Гончаров, Н. Тихонов и Кукрыниксы, М. Шагинян и В. Мухина, К. Симонов и Е. Кибрик, Р. Гамзатов и Н. Жуков... Здесь же портреты зарубежных мастеров - французского писателя Труайя и япопского архитектора Танге, итальянского писателя Дзаваттини и венгерского скульптора Маргариты Ковач. Книга воссоздает жизнь художника, его своеобычное, его новаторское существо. Автор раскрывает взаимосвязь искусств, их взаимовлияние, их взаимообогащение.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Театр был триединой державой — его составляли три своеобразные мастерские, или, как тогда называли, цеха: актерский (к которому относил себя и наш режиссер), изо и литературный. Как ни далеки были литературные дела театра (я был ответствен именно за этот цех) от изобразительных, у меня была возможность близко наблюдать Новикова. В своих экспериментах театр удалялся на почтительное расстояние от жизни. Театр утверждал: чтобы владеть зрителем, есть смысл создать свой мир средств изобразительных. Зритель, видевший наши спектакли, уходил из театра с ощущением, что он побывал на другой планете. Нет, в пьесе, как и в спектакле, речь шла о делах вполне земных, но герои спектакля не столько ходили по сцене, сколько по ней летали, копируя неких существ, имеющих мало общего с землянами. Зритель был снисходителен к эксперименту, при этом иногда даже аплодировал. А как художник? То, что он делал, было ярко и броско, хотя к урокам Нестерова имело и весьма отдаленное отношение. Случайно или нет, но вдруг у художника отпала необходимость обращаться к рисунку. Наверно, потому, что рисунок — это земля, жизнь, круг привычных нашему восприятию образов, а действие спектакля смещалось едва ли не в сферу внеземную. Помню новиковское оформление «Дружной горки», — казалось, действие перенесено в некую страну, где светит иное солнце, и в точном соответствии с этим все оно происходило на фоне ярко-алого полотнища. Справедливости ради следует сказать, что вся система конструкций спектакля выглядела чрезвычайно эффектно на фоне заревых всполохов полотнища. Помню, что спектакль шел на ура, при этом в немалой степени и благодаря художнику.
Но вот незадача: стараюсь восстановить в памяти ту пору и не очень помню, чтобы Новиков вспоминал Нестеровскую науку рисунка, — нет, не то чтобы строгий учитель вдруг оказался не в чести, просто не было необходимости в рисунке. Да это и понятно: в театре, который завладел умом художника, человек, богатство его психологии, мир его мыслей и чувств медленно отступали на второй план, а вместе с ними и многовековая наука изобразительного постижения человека, обязательная и для художника театра. Однако как долго это должно было продолжаться? Не близился ли час переоценки ценностей, час прозрения?
Случилось так, что мы не виделись с Новиковым лет пять... нет, не то что я встретил иного Новикова, но во многом иного. Быть может, встрече нашей сообщил свой колорит город, который был рядом. Отчая земля Вахтангова, город крупного провинциального театра, актерское пристанище той же Матрозовой. Помню, как мы уходили в долгие аллеи здешнего трека, протянувшегося вдоль Терека, и Новиков говорил, что перечитывает Станиславского, открывая его для себя заново. В спектаклях, оформленных Новиковым, вдруг воспряла зримая предметность, а вместе с нею и рисунок, при этом Новиковские краски, которые были так сильны в работах художника и прежде, не ушли. Именно в красках осталась свойственная Новикову широта художественного мышления, свобода фантазии, как и изобретательность решения, подсказанного своеобычием театра, его законами, которые и прежде хорошо знал художник. Мне захотелось написать о художнике театра Александре Новикове. Вот эта статья сейчас передо мной. Смотрю и глазам не верю: она написана почти пятьдесят лет назад... Смысл статьи — верность Новикова театру, верность подвижническая, одержимая.
— Философия... одержимых? — сказал мне Новиков все на тех же долгих аллеях владикавказского трека. — Моя стезя: театр в большом городе, пожалуй, больше периферийном, чем столичном, нерасторжимо связанный с историей города, с укладом жизни его заводов, пристаней, железных и шоссейных дорог, театр, нужный городу... — Он затихал на минуту и продолжал, воодушевляясь: — Мое желание, чтобы у такого театра был режиссер: как Синельников в Харькове, как Собольщиков в Нижнем, режиссер, способный мыслить крупно. По слухам, в больших театрах на русском Севере, на Волге есть такие режиссеры...
Итак, режиссер...
У него было громкое имя на русской театральной периферии — Ростовцев.
Представление о его режиссерском даре было нерасторжимо со всем тем, что поминалось о человеческих данных режиссера: «О, Иван Алексеевич — сила!» Но вот что характерно: к почтительному уважению, с каким произносилось ими Ростовцева, примешивалась тревога, быть может, чуть-чуть страх — художники глядели на режиссера не без опаски. «Его реакция неожиданна... К тому же знает только себя и с собой только считается!..»
«Неожидан в своих решениях!» Это повторялось так часто, что было похоже на правду. Впрочем, выбор репертуара тоже был отмечен некоей внезапностью. Вдруг остановил выбор на горьковских «Чудаках». По подсчетам театральной статистики, пьеса не шла на русской сцене сорок лет. Впрочем, для тех, кто знал Ростовцева, в этом как раз не было ничего необычного. За свою жизнь на театре Ростовцев поставил все пьесы Горького, как, впрочем, все пьесы Островского. Одно сочетание этих двух имен уже давало немалое представление о Ростовцеве. В самой молве, что режиссер знает характер русского человека и не перестает постигать его, было много правды. Разговору с Новиковым о «Чудаках» предшествовал конфликт, ставший известным театру: Новиков не первый, а третий... Разговор начался с того, что Ростовцев спросил, сколько лет художнику, — на взгляд режиссера, постижение всего, что несла пьеса, требовало знания жизни, а следовательно, возраста. Когда возник вопрос, что хотел бы сказать режиссер художнику до того, как тот прочтет пьесу, режиссер настоял: «Пусть вначале послушает, что хочет сказать нам Горький...» Начало не очень-то воодушевляло. «Забодал двух, забодает и третьего».
Новиков не спешил показывать эскизы. Сделал один вариант, потом другой. Все заново, все по-иному. Когда дошло дело до показа, понес оба варианта. Ростовцев выглядел гроза грозой. Он был полуночником, сидел над мизансценами ночами. Видно, и предыдущая ночь была такой. Лицо было шафранным, стариковские брови точно нацелены на собеседника, не предвещая ничего доброго. «Ну-ну, показывайте... Два варианта? Любопытно!» Ему понравилось, что художник сделал два варианта. Сам великий труженик, Ростовцев почитал проявление трудолюбия и у других. Молча посмотрел один вариант, потом другой. Только однажды воскликнул: «Художник кисти!.. Вы только взгляните: художник кисти!» Новиков и прежде слыхал, что Ростовцев любил живопись, при этом и в оформлении. Сейчас это было явно. «Художник кисти, художник кисти!..» — повторил режиссер, однако уже без прежнего воодушевления, — видно, сомнения теперь одолевали и Ростовцева.
Оба новиковских варианта Ростовцев «забодал», правда, «забодал», щадя самолюбие художника. В пьесе есть сцена объяснения в любви, при этом она происходит в обстоятельствах необычных — в соседней комнате лежит покойник. Художник посчитал, что он может явить необычное положение пьесы зримо, и не преминул воссоздать в некоей перспективе и вторую комнату, куда отнесено прощание с умершим... По мысли художника, сопоставление того, что происходит на первом и втором планах, сулят и ему приобретения немалые. Так полагал художник. Но режиссер не захотел идти по этому пути, считая, что это слишком элементарно, — он пренебрег соблазном и предложил свое понимание пьесы. Он сказал: «Мне не надо, чтобы было страшно, не надо!.. Что говорит герой? Не помню буквально, но смысл, смысл... Помните? «Ушел человек из жизни, а жизнь-то продолжается, а сирень-то цветет — какая же это прелесть жизнь!» Вот это и есть главное, при этом и для художника...» Так возник третий новиковский вариант — он был принят. Остается добавить, что «Чудаки», поставленные Ростовцевым, пробудили интерес к забытой пьесе Горького. Как это бывает на театре в подобных обстоятельствах, пьесу захотели поставить другие режиссеры, и она обошла многие сцены России. Но спектакль этот во многом стимулировал отношения между режиссером и художником.
— Теперь я могу сказать вам: мне симпатичен живописный момент в вашем оформлении, — признался Ростовцев. — Хочу делать с вами «Короля Лира»...