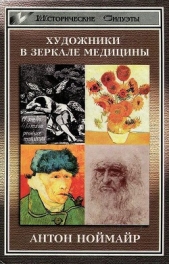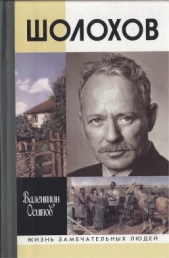Художники

Художники читать книгу онлайн
Свою книгу С. Дангулов назвал "Художники". Эта книга о мастерах пера и кисти. Автор словно вводит читателя в портретную галерею: М. Шолохов и А. Гончаров, Н. Тихонов и Кукрыниксы, М. Шагинян и В. Мухина, К. Симонов и Е. Кибрик, Р. Гамзатов и Н. Жуков... Здесь же портреты зарубежных мастеров - французского писателя Труайя и япопского архитектора Танге, итальянского писателя Дзаваттини и венгерского скульптора Маргариты Ковач. Книга воссоздает жизнь художника, его своеобычное, его новаторское существо. Автор раскрывает взаимосвязь искусств, их взаимовлияние, их взаимообогащение.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я вспомнил все это, когда обратил взгляд на героев толстовского романа, как их вызвало искусство Верейского. Если говорить о всей плеяде героев — Анна, Каренин, Левин, Вронский, Облонский, Кити, Долли, то точность жанровых характеристик, конечно, на стороне Каренина, Облонского, Кити, Долли. В Каренине, как его увидел Верейский, есть железность лица служилого, она, эта железность, в покатой спине, во впалых щеках, в худобе, которая, казалось, держит каренинский характер, помогая совладать с бедой, в каренинских руках, неподвижных и безнадежно повисших, в горящих глазах, — наверное, в них спеклась боль, но они просят о пощаде. Быть может, свои слова можно найти для характеристики Облонского, Кити, Долли — тут есть подробности типичные. Но мне хотелось коснуться здесь двух толстовских героев: Анны и Левина. В романе Левин едва не влюбляется в Анну, как навсегда остался к ней неравнодушен Толстой. Что-то есть в самой сути Анны, что склонило к ней симпатии Толстого и Левина. В известном диалоге Толстого и Крамского я отметил для себя такие слова: «Анна умрет — ей отомстится... Надо стараться жить верой, которую всосал с молоком матери, без гордости ума...» Вот о вере без гордости ума, а следовательно, о жажде совести, жажде того, что на совести стоит, как мне кажется, и поведал нам Верейский. И еще: у Верейского, насколько нам известно, ость тут своя концепция — он не сосредоточивает нашего внимания на лике Анны; он не показывает даже ее глаза. Но вот что характерно: мы видим Анну, видим настолько отчетливо, что кажется нам — открылись и ее глаза, которые художник скрыл.
Но к тому, что сделал Верейский на этом завершающем этапе своей работы, есть смысл добавить еще одно: речь пойдет именно об Анне. Во мнении общества за Липой тяжкий грех, и воля этого общества, воля подчас немая, но редкостно единодушная, отметила толстовскую героиню своим каиновым клеймом. Но у нас-то иное мнение об Анне. Конечно же в сцене, о которой уже шла речь в нашем рассказе, когда крестьяне, расположившиеся у телеги, вдруг видят в открытом ноле Анну, ость зримая межа, разделившая одних и других. Но ведь в той группе, где Айва, она одна единственная, и ее отличают от тех, кто рядом, душевное совершенство, ее целомудрие, в конце концов. Если же говорить о том, кто извечно был хранителем этой чистоты душевной, то конечно же это были не те, кто оказался рядом с Анной, а те, кто стоял сейчас у телеги... Да, это выражают и их лица: сколько в них душевной прямоты, естественности, незатаенного порыва, того чистого, что всегда было источником нравственности.
Не знаю, так получилось это у писателя или подсказано его замыслом, но физическое совершенство Анны является лишь зеркалом ее нравственных достоинств. И неравнодушие Левина к ней лишь отражает симпатии к ней автора. Если же продолжить эту мысль, то следует сказать, что есть тут некий триумвират: Анна, Левин, и конечно же Толстой. Вспомним, Толстой сказал в разговоре с Крамским: «Думаю, что художник звука, линии, цвета, слова, даже мысли в страшном положении, когда не верит в значительность выражения своей мысли...» Хочу думать — и в этом мне видится великое созидательное начало толстовского гения, — что писатель вызвал к жизни Анну и Левина, чтобы опереться на них в своей надежде, в своей вере в человека. Из тех редких достоинств, которыми обладает история, да к тому же, добавим мы, ставшая произведением искусства, редчайшее — дар провидения. Явив нам панораму жизни, а заодно и многообразный лик народа, Верейский не просто сблизил нас с теми из героев романа, на стороне которых симпатии автора, а помог постичь их.
МЫЛЬНИКОВ
Мой друг, побывавший на испанской войне и, к счастью, вернувшийся с нее живым, сказал: «Испания — это зеркало, надо только хорошо смотреть в него». Это было сказано в московское полуночье летом тридцать восьмого года в переулке, который носит ныне имя Серова. Кстати, Анатолий Серов, великолепный летчик и герой Мадрида, сидел рядом и слышал максиму товарища об Испании и зеркале. Хочу припомнить настроение той ночи и не могу отторгнуть от себя острое чувство опасности, которое ощутил тогда. Не помню, было ли в ту ночь помянуто имя Федерико Гарсиа Лорки, но позже, читая стихи Лорки, я не мог не вспомнить той ночи.
Судья с отрядом жандармов идет масличной дорогой.
А кровь змеится и стонет немою песней змеиной.
Так повелось, сеньоры, с первого дня творенья.
В Риме троих недочтутся и четверых в Карфагене...
В нашем сознании судьба русских юношей, вступивших на испанских полях в единоборство с фашизмом, сомкнулась с жизнью и борьбой испанского поэта, которого фашисты августовской ночью тридцать шестого года расстреляли на обочине дороги в восьми километрах от Гранады. Наверно, воспоминание о Лорке сегодня нам тем более дорого, что ого образ точно воссоздает свет добра и знании, который справедливое время сопрягло с самим ликом воителя-антифашиста, будь то испанец или русский.
Мне хотелось предпослать именно это вступление к разговору о триптихе, недавно увенчанном высшим злаком признания — Ленинской премией. Но тут есть резон обратиться к существу триптиха Андрея Мыльникова. Первое впечатление — оно объемлет произведение и представляется верным — триптих утверждает идею борющейся Испании, подвиг Испании, во многом трагический, но все-таки победоносный. Наверно, это тот род героизма, когда поражен но рождает победу и сама смерть причастна к рождению жизни, как у Мыльникова... Может, поэтому эпиграфом к триптиху могли явиться слона испанского поэта: «В других странах — смерть — это конец. Она приходит, и занавес закрывается. В Испании иначе. В Испании он поднимается».
Как ни аллегорична первая картина триптиха, она сильна тем, что опирается на испанскую традицию. В произведении, действие которого перенесено на землю Иберии, это необходимо не только для колорита; отсвет первой вещи как бы лег на все последующие, сообщив им истинно испанское звучание и, что еще более важно, собрав три части произведения в единое целое! Конечно, испанской темой, как и испанскими реалиями, пронизаны все три вещи, но эта, первая, как бы задает тон, и этому тону подвластен весь замысел.
Во второй части триптиха — суть произведения. И художник не отступил от собственно испанских реалий: католический крест, церковь с островерхой крышей и сомкнувшейся с нею звонницей, готика фонарей и башенки, венчающей крышу церкви с таким же, как на переднем плане, крестом, и... распятое тело юноши, сына Испании. Художник сказал свое слово, но мы все еще слышим голос художника. «Всмотритесь пристальнее: видите красно-синие дымы за церковью? Те, кто ведут бой, оружия не сложили — борьба продолжается...»
И третья часть триптиха: Лорка. Кажется, в точном соответствии с хроникой смерти поэта: августовской ночью тридцать шестого расстрелян на обочине дороги в восьми километрах от Гранады... Но видение художника, его воображение сообщили картине смерти силу необыкновенную. Помните, в тихоновском «Перекопе»: «Но мертвые, прежде чем упасть, делают шаг вперед»?
И человек будто напряг силы, чтобы сделать этот шаг: вон как запрокинул голову в крике, быть может в немом крике, как распростер руки, пытаясь удержать равновесие!.. Да не являет ли его фигура тот же крест, крест-символ, на котором враг стремился распять республику? И вот эта распахнутая куртка, обнажившая грудь, которой, казалось, поэт принял всю немалую меру свинца, что отвесили ему недруги, — да не знак ли это неодолимой стойкости человека, его верности идеалу?
И последнее, что хочется сказать о триптихе: помните эту женщину с младенцем, что встала рядом с распятым? Вон какого труда ей стоит сделать шаг от креста, но тем крепче она прижимает к груди младенца: в нем — жизнь, надежда — тоже в нем. Как мы понимаем художника, он сказал об этом с той определенностью, которая все ставит на свои места: речь идет именно о жизни и надежде. Стоит ли говорить, что философия замысла, как я его исполнение художником, отразила тревоги и устремления сегодняшнего дня — тем полнее это воспринимается нашим разумом и сердцем, тем большее впечатление это производит. Но вот что характерно в этом образе мадонны: вызвав этот образ к жизни, художник будто обратил взгляд к тому, что он делал в течение всей своей жизни в искусстве, — я говорю об образе добра, а может быть, и любви, а в конечном счете об образе торжества жизни, как это возникло в полотнах художника и, в сущности, перешло из картины в картину.