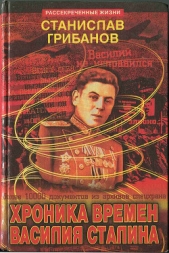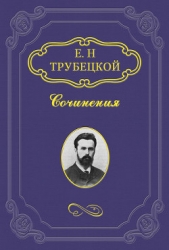Сталин и писатели Книга первая

Сталин и писатели Книга первая читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Добродушного, незлобивого русского человека, готового поделиться с пленным немцем последней закруткой табака, он должен был изо дня в день учить науке ненависти. Потому что, как он написал в одной тогдашней своей статье, война без ненависти так же аморальна, как близость с женщиной без любви.
Но можно ли жить ненавистью, оставаясь при этом человеком?
В другой своей статье военных лет Эренбург сказал, что, помимо всего прочего, мы ненавидим немецко-фашистских захватчиков еще и за то, что вынуждены их убивать.
То есть заниматься этим нечеловеческим, в сущности, античеловеческим делом.
Эти «уроки Эренбурга» были тогда прочно усвоены людьми разных поколений. Они вошли в «состав личности» даже тех, кто, может быть, этого и не осознавал, а сейчас, пожалуй, даже и наедине с собой ни за какие коврижки не признается в этом.
Приведу только один пример.
В романе Александра Солженицына «В круге первом» главный его герой — Глеб Нержин (alter ego автора) — из всех своих товарищей по «шарашке» особо выделяет дворника Спиридона. Именно ему он отдает (дарит на память) перед этапом любимую свою, с трудом выдранную из лап «кума» книжечку Есенина (взять ее с собой на этап ему не дадут).
Спиридон для Нержина (а стало быть, и для автора) — носитель вековой народной мудрости, живого народного сознания, единственной (опять же народной) и потому единственно истинной системы нравственных понятий и ценностей. В общем, этакий современный Платон Каратаев.
И вот с этим Спиридоном происходит у Нержина такой, — может быть, самый важный для автора во всем этом его романе, — разговор:
— Давно хочу тебя спросить, Спиридон Данилыч, пойми меня верно. Вот слушаю, слушаю я про твои скитания. Крученая у тебя жизнь… Все чего-то ты метался, пятого угла искал — ведь неспроста?.. Вернее, как ты думаешь — с каким… — он чуть не сказал «критерием», — … с меркой какой мы должны понимать жизнь? Ну, например, разве есть люди на земле, которые нарочно хотят злого? Так и думают: сделаю-ка я людям зло?.. Вот ты говоришь — сеяли рожь, а выросла лебеда. Так все-таки, сеяли-то — рожь или думали, что рожь? Может быть, люди-то все хотят доброго — думают, что доброго хотят?.. Убедят себя, что они хорошо делают, а на самом деле выходит худо.
Наверно, не очень ясно он выражался. Спиридон косовато, хмуро смотрел, ожидая подвоха, что ли.
— А теперь, если ты, скажем, явно ошибаешься, а я хочу тебя поправить, говорю тебе об этом словами, а ты меня не слушаешь, даже рот мне затыкаешь, в тюрьму пихаешь — так что мне делать? Палкой тебя по голове? Так хорошо, если я прав, а если мне это только кажется, если я только в голову себе вбил, что я прав? Да ведь если я тебя сшибу и на твое место сяду, да «но! Но!», а не тянет оно — так я и трупов нахлестаю? Ну, одним словом, так: если нельзя быть уверенным, что ты всегда прав, — так вмешиваться можно или нет? И в каждой войне нам кажется — мы правы, а тем кажется — они правы. Это мыслимо разве — человеку на земле разобраться: кто прав? Кто виноват? Кто это может сказать?
— Да я тебе скажу! — с готовностью отозвался просветлевший Спиридон, с такой готовностью, будто спрашивали его, какой дежурняк заступит дежурить с утра. — Я тебе скажу: волкодав — прав, а людоед — нет!
— Как-как-как? — задохнулся Нержин от простоты и силы решения.
— Вот так, — с жестокой уверенностью повторил Спиридон, весь обернувшись к Нержину: — Волкодав прав, а людоед — нет.
В этой дважды повторенной (второй раз даже выделенной курсивом) формуле, от простоты и силы которой Нержин аж задохнулся, для автора романа — «смысл философии всей», ясный и исчерпывающий в своей простоте и ясности ответ на все мучившие его вопросы.
Так вот, эту формулу, эту вершину Спиридоновой (народной) мудрости Солженицын взял у Эренбурга. Из его статьи 42-го года:
Ненависть не лежала в душе русского человека. Она не свалилась с неба. Ее наш народ выстрадал. Вначале многие из нас думали, что это — война как война, что против нас такие же люди, только иначе одетые. Мы были воспитаны на идеях человеческого братства и солидарности. Мы верили в силу слова, и многие из нас не понимали, что перед нами не люди, а страшные, отвратительные существа. Что человеческое братство диктует нам быть беспощадными к фашистам, что с гитлеровцами можно разговаривать только на языке снарядов и бомб.
Волкодав — прав, а людоед — нет. Одно дело убить бешеного волка, другое — занести свою руку на человека. Теперь всякий советский человек знает, что на нас напала свора волков.
В том, что именно Эренбург, а не Сталин, нашел слова для определения нравственных основ нашего противостояния нацизму, ничего удивительного нет. Тут ему, писателю, как говорится, и карты в руки. Удивительно другое: то, что Эренбург и в чисто политическом смысле оказался трезвее и проницательнее Сталина. Ведь как к Сталину ни относись, но фраером или, как нынче говорят, лохом в политике он уж точно не был. Да и информации о том, как складываются дела на политической карте мира, у него было куда больше, чем у Эренбурга.
24 апреля 1941 года Сталин позвонил Эренбургу. (Это был единственный их прямой разговор.)
Эренбург тогда писал свой роман «Падение Парижа» и с большим трудом печатал уже написанные главы. Редактор «Знамени» — журнала, в котором печатался роман, — при встрече мрачно ему сказал:
— О вашем романе разные суждения. Мы не сдаемся… Но насчет второй части ничего не могу сказать…
Во второй части рассказывалось о событиях 1937— 1938 годов, немцы там еще не появлялись. Но всем было понятно, куда гнет автор. Пакт с Гитлером, определивший всю тогдашнюю идеологическую атмосферу, не оставлял для публикации антифашистского, антигитлеровского романа практически никаких шансов.
Двадцатого апреля я узнал, что вторую часть «Падения Парижа» не пропустили. Я пришел в скверном настроении, но решил писать дальше.
Двадцать четвертого апреля я сидел и писал четырнадцатую главу третьей части, когда мне позвонили из секретариата Сталина, сказали, чтобы я набрал такой-то номер: «С вами будет разговаривать товарищ Сталин».
Ирина поспешно увела своих пуделей, которые не ко времени начали играть и лаять.
Сталин сказал, что прочел начало моего романа, нашел его интересным, хотел прислать мне рукопись — перевод книги Андре Симона, — это может мне пригодиться. Я поблагодарил и сказал, что книгу Симона читал в оригинале. (Эта книга потом вышла в русском переводе под названием «Они предали Францию», что касается автора — Симона-Катца, то его казнили в Праге незадолго до смерти Сталина.)
Сталин спросил меня, собираюсь ли я показать немецких фашистов. Я ответил, что в последней части романа, над которой работаю, — война, вторжение гитлеровцев во Францию, первые недели оккупации. Я добавил, что боюсь, не запретят ли третьей части, — ведь мне не позволяют даже по отношению к французам, далее в диалоге употреблять слово «фашисты». Сталин пошутил: «А вы пишите, мы с вами постараемся протолкнуть и третью часть…»
Люба, Ирина ждали в нетерпении: «Что он сказал?..» Лицо у меня было мрачное: «Скоро война…» Я, конечно, добавил, что с романом все в порядке. Но я сразу понял, что дело не в литературе. Сталин знает, что о таком звонке будут говорить повсюду, — хотел предупредить.
Итак, о том, что «скоро война», Эренбург узнал от Сталина. Сталин, стало быть, не тешил себя иллюзиями: ясно понимал, что война с гитлеровской Германией неизбежна. Но когда это случилось, он впал в такую глубокую прострацию, что готов был даже начать переговоры с Гитлером, предложив ему (по аналогии с ленинским Брестским миром) отдать Украину и все другие, уже захваченные им к тому времени территории.