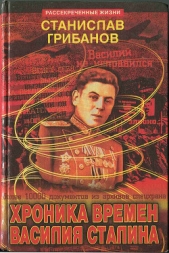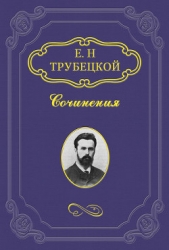Сталин и писатели Книга первая

Сталин и писатели Книга первая читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тон статьи в «Комсомолке», которая дана как редакционная, заставляет меня задуматься над словами т. Ангарова и над отношением ко мне руководящих литературной политикой товарищей. Если она совпадает с «Комсомольской правдой», то я с величайшей охотой буду впредь воздерживаться от каких-либо литературно-общественных выступлений и в Союзе и на Западе. Очень прошу вас ответить мне на этот вопрос.
Ответ последовал не сразу, и начинался он ссылкой на болезнь, помешавшую автору письма ответить на заданный ему вопрос немедленно. Но есть все основания предполагать, что задержка ответа была вызвана не только болезнью Александра Сергеевича. Ответ, надо полагать, согласовывался. Об этом говорит не только смысл, но и тональность этого ответа, достаточно определенная и в то же время уклончивая, вежливо сдержанная и в то же время не оставляющая места для каких-либо дальнейших переговоров, а тем более ультиматумов:
23 марта 36 г.
Москва
Дорогой Илья Григорьевич!
Я на 12 дней выбыл из строя (болел), поэтому отвечаю на Ваше письмо с опозданием, за что прошу извинения.
Первый вопрос, какой мне задал в Москве Мальро, был такой: «Я прошу от своего имени и от имени А. Жида объяснить мне — какие крупные разногласия разделяют советских писателей и Эренбурга». На этот вопрос я ответил: «Разногласий, которые бы разделяли советских писателей и Эренбурга, — нет, ибо Эренбург сам советский писатель. Речь может идти о творческих разногласиях у ряда советских писателей с писателем Эренбургом. Эти разногласия были и есть, происходят они в рамках советской литературы». Так ответил я Мальро.
Признаться, я не понял сначала вопроса Мальро. Стал он мне понятен через несколько дней, когда я получил Ваше письмо.
Вы зря ставите так вопрос: «с величайшей охотой буду впредь воздерживаться от каких-либо литературно-общественных выступлений и в Союзе, и на Западе».
Известно, что Ваши литературно-общественные выступления никем не навязаны, что они являются результатом внутреннего Вашего убеждения. Почему же отказываться от выступлений, которые продиктованы внутренним убеждением.
Вообще метод «отставки», как Вы знаете, сочувствия обычно не встречает.
Что касается главного — отношения к Вам, я могу только повторить то, о чем я Вам неоднократно писал и говорил.
Вы имеете свою оценку творчества Пастернака, с которой иные могут соглашаться или не соглашаться.
Разрешите этим людям о несогласии с Вами писать и говорить.
Делать же отсюда какие-либо выводы об отношении к Вам товарищей — нет оснований.
Письмо это являет собой истинный шедевр самой изысканной, я бы даже сказал куртуазной дипломатии. Оно полно тончайших шпилек и намеков. О какой, мол, отставке, Илья Григорьевич, может идти речь, — ведь вы же не порученец какой-нибудь, не «агент влияния». Вы не на службе, все ваши выступления продиктованы внутренним убеждением, — зачем же вам от них отказываться? Но тут же, в следующей же фразе слово «отставка» (самим Эренбургом, кстати, не произнесенное) вдруг появляется. И сама фраза несет в себе тайную, хотя и не слишком скрываемую угрозу:
Вообще метод «отставки», как Вы знаете, сочувствия обычно не вызывает.
Невзначай брошенная реплика эта заставляет вспомнить хорошо известный факт из биографии Пушкина. Возмущенный перлюстрацией его письма к жене, Александр Сергеевич написал Бенкендорфу, что по семейным обстоятельствам вынужден оставить службу. Николай Павлович, к которому фактически было обращено это письмо, высказался (в разговоре с пытавшимся смягчить гнев царя Жуковским) по этому поводу так:
— Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком случае между нами все кончено.
Еле-еле удалось Жуковскому этот инцидент уладить.
Трудно сказать, имел ли в виду Щербаков этот исторический прецедент, или исходил из собственного своего «бенкендорфовского» опыта. Но начитанный Эренбург эту историю наверняка помнил. Во всяком случае, намек Щербакова он понял и об отставке больше не заговаривал. Так до конца дней и остался «двоеженцем».
Сюжет второй
«Я ВЫРАЖАЛ НЕ СВОЮ ЛИНИЮ, А ЧУВСТВА НАШЕГО НАРОДА»
Эта фраза — из письма Эренбурга Сталину, написанного 15 апреля 1945 года, то есть на другой день после появления в «Правде» статьи Г.Ф. Александрова «Товарищ Эренбург упрощает». Статья эта была шоком — не только для Эренбурга, но и для миллионов его читателей. Она стала шоком даже и для тех из прочитавших ее, кого меньше всего в этой ситуации интересовал Эренбург. Ведь эта статья обозначила некий идеологический поворот, для которого предъявленные Эренбургу обвинения были только поводом.
Ни у кого из прочитавших статью, да и у тех, кто ее не читал, а только слышал о ней, не могло быть и тени сомнений в том, что истинным ее автором был не Г.Ф. Александров, — хоть тот и был в тогдашней партийной иерархии фигурой не мелкого ранга: он был начальником, как это тогда называлось, Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б).
Всем было ясно, что такая статья могла быть написана и напечатана в «Правде» только по личному указанию Сталина.
Распорядившись написать и опубликовать эту статью, Сталин, как это всегда бывало у него в подобных случаях, решал одновременно несколько важных государственных (пропагандистских, идеологических, дипломатических и даже военных) задач. Не обошлось и без особого, неизменно проявлявшегося во всех важных сталинских начинаниях коварства. (Ко всем этим ответвлениям главного сюжета мы еще вернемся.) Но был тут у него еще и некий личный мотив.
С него и начнем.
Сегодняшним читателям, — во всяком случае, тем, кому еще нет восьмидесяти, — не просто трудно, а прямо-таки невозможно себе представить, кем был для нас Эренбург во время войны.
Страна вступила в войну в состоянии полной идеологической растерянности. В первые же военные дни в прах разлетелись все идеологические стереотипы, внушавшиеся нам на протяжении многих лет и прочно завладевшие нашим сознанием. Сразу же стала очевидной беспочвенность владевших нами иллюзий — начиная с наивной уверенности, что немецкие пролетарии ни за что не станут стрелять в своих братьев по классу, и кончая столь же наивной убежденностью, что «на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом».
Выйдя из прострации, Сталин потом наспех соорудил вместо рухнувшей в одночасье идеологической схемы другую, призвав на помощь великие тени славных русских полководцев и флотоводцев, в том числе и тех, которые еще вчера третировались как верные слуги ненавистного царского режима В ход были пущены даже антинемецкие сплетни и анекдоты времен Первой мировой войны.
Но это все — позже.
А в первые трагические военные дни волею обстоятельств единственным идеологом страны, вступившей в смертельную схватку с фашизмом, стал Эренбург.
Позже эту роль Эренбурга всячески старались если не замолчать, то смазать. В официозных перечнях выдающихся советских публицистов военного времени имя Эренбурга обычно поминалось вслед за именами Шолохова, Алексея Толстого и Леонида Леонова, хотя для тех, кто еще не забыл 41-й год, не было сомнений, что он в этом ряду по праву должен был стоять первым.
Но на самом же деле он был даже не первым, а единственным.
В тогдашних своих статьях он определил не только идеологию, но и философию той нашей войны. Ее моральное оправдание. Ее нравственную основу.
Мальчикам и девочкам, воспитанным на принципах интернационального всечеловеческого братства, надо было изо дня в день повторять: убей немца!
И он это делал.
Это он пустил принятую и подхваченную всем нашим воюющим народом презрительную кличку «Фриц». А ведь «Фрицем» звали Энгельса. («Фриц» — это уменьшительное от «Фридрих».) В Испании «Фрицем» звали генерала Батова, которого Эренбург знал и любил еще со времен той, Испанской войны.