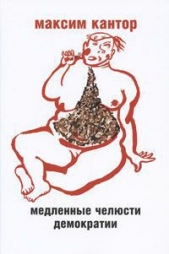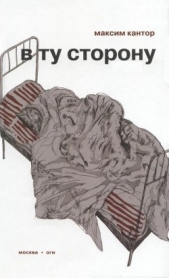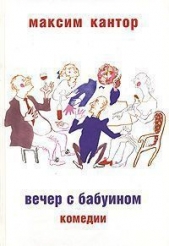Сетевые публикации

Сетевые публикации читать книгу онлайн
Работы художника Максима Кантора находятся в Британском музее, в Третьяковской галерее, во многих галереях Европы и США. Максим Кантор-писатель известен в первую очередь как автор романа «Учебник рисования», который критики назвали одновременно пособием по рисованию, антипостмодернистским манифестом, политической сатирой и философическим трактом и который вызвал в середине нулевых большую полемику. Максим Карлович Кантор часто отзывается о делах повседневных и мимолетных — к примеру, всяческих социально-политических событиях. Однако его отзывы об этом таковы, что по ним лет через дцать вполне можно будет собирать учебник по Истории. В мимолетном Кантор неизменно замечает вечное и, кажется, предпочитает именно такой способ изучения бытия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Священнослужители, как и прочие люди, обычных пороков не избегли, церковь — земное учреждение, не небесное, соответственно и грехи имеет. Однако о ее поругании советская интеллигенция печалилась: скорбела о народе, лишенном отеческой веры, теряющем мораль. А вот когда Православная церковь возродилась — хватило пустяка, чтобы вернуть риторику, которая раздражала в коммунистах. Впрочем, корпоративные претензии сегодняшнего дня на качественно ином уровне.
Уже прозвучало: ошибкой России было принятие именно православия. Сходную мысль некогда высказал Петр Яковлевич Чаадаев — он считал, что принятие православия из византийского источника сказалось пагубно на истории социальной жизни России. Сам Чаадаев (вопреки легенде), кстати сказать, был православным, а не католиком, но мечтал о единении церквей; как и Владимир Соловьев впоследствии, он думал об экуменизме. Упрек византийскому «мутному источнику» запомнили, любят цитировать. Однако, повторяя упрек Чаадаева, сегодняшний прогрессивный борец думает не о католицизме и отнюдь не об экуменизме. И не о некоем очищенном варианте православия, разумеется, идет речь. И вовсе не о лозунге нестяжателей в конфликте с иосифлянами. Ну какое же, право, нестяжательство сегодня? С финансовым капитализмом все это не уживется никак, сколь бы многоярусно ни было сознание менеджера.
Речь сегодня идет о радикально ином понимании роли церкви, которое несет с собой Реформация. Как это нередко бывает в России, народное сознание подстраивается под внедренную социальную перемену задним числом: во время первого сошествия капитализма на Русь обнаружилось, что в России нет пролетариата, надо было его срочно изобретать; а во время второго пришествия капитализма выяснилось, что не хватает здорового лютеранского эгоизма, которым легко управлять. Не хватает основного рычага, чтобы личный интерес обрушил коллективное сознание, а рычаг такой очень нужен. Община хороша для маевок и коллективного планового хозяйства, а чтобы качественно работать в корпорации, нужно совсем иное. Максимально секуляризированная религия, личная ответственность служителя, право паствы судить о пастыре, каждый сам себе пастырь — это все манера рассуждения протестантской общины, вовсе не православного мира. И метаморфоза в общественном сознании тех людей, которые вчера горевали об утраченной вере отцов, любопытна. Идея возникновения капитализма из протестантизма (описанный Вебером феномен) стала причиной новых комплексов в России. В который уже раз Россия испытала чувство культурной несостоятельности: мало было нам татарского ига, мало было нам злокозненного коммунизма, мало было нам планового хозяйства, вот оказывается теперь, что и религия у нас некондиционная. В приличных странах вон во что верят, а у нас?
Некогда Николай Бердяев выводил истоки русского коммунизма из феномена православной общины, идеалы общины стали основой толстовства — и, как это повелось при тотальном переломе в России (см. реформы Петра, Столыпина и Троцкого), именно общинный уклад и является тем, что требуется рушить до конца, в прах. Таким образом, хотя мы и повторяем советскую риторику касательно священнослужителей сегодня, суть ее противоположная: желание радикального искоренения социалистических основ общества ведет к отрицанию православия. То есть сегодняшний антиклерикальный пафос, собственно говоря, проходит по ведомству столыпинских и троцкистских реформ — искоренение общинного сознания вообще, замена такового на сознание корпоративное.
Переделать Россию в пятьсот дней, введя кооперативы, — это семечки; возникает желание более дерзновенное — изменить культурную природу Отечества, призвав православие к ответу. Сколь перспективно было бы ввести строгие молельные дома, в которых прихожане будут обмениваться сдержанными рукопожатиями, а ответственность каждого перед своей корпорацией рукопожатных составит первый урок в бизнесе! Реально ли заменить православную веру Отечества на протестантскую — сказать затруднительно. Изменение народа на генетическом уровне социальными практиками еще не опробовано. То есть программы в 30-е годы ушедшего века писались, но неловко вспоминать авторов и предложенные методы лечения.
В условиях гражданской смуты рушить и церковь как последнюю моральную скрепу общества — опрометчиво, если не сказать больше. И хотя призыв к нестяжательству можно лишь приветствовать, будет вовсе славно, если мораль сия будет применяться не выборочно, но повсеместно.
Желание просвещенной публики идти стопами графа Толстого в критике неправды, в частности неправды церковной, понятно, но следование графу не вполне последовательно.
Отказаться от стяжательства — достойно. Стяжательство есть позор и непоправимая беда для человеческой натуры. Об этом задолго до возникновения христианства предупреждали Платон, Диоген Синопский, Антисфен и Сенека. Деньги уродуют человеческую натуру непоправимо, а изобретательность в добыче богатства мобилизует хитрость, ловкость, лживость, властность — но отнюдь не доброту и сострадание. Церковь в этом смысле с античными мыслителями сугубо солидарна. Жизнь отдельных пастырей и простые сельские храмы как нельзя лучше это иллюстрируют.
Однако сам по себе институт церкви и жизнь ее главных предстоятелей — это нечто иное. Пий XII отмечен в истории минувшего века малопривлекательными вещами, но авторитет папства это поколебать не смогло, и слава Богу, что так. Претензия, вмененная обществом храму и патриарху, должна быть переадресована всей русской культуре, воспитанной на осмыслении Православной церкви.
Пышность убранства церкви есть воплощение славы Господа, есть элемент обрядовой веры — веры тысяч и миллионов бесправных и беззащитных. Личность предстоятеля может быть сугубо ничтожна, но в той мере, в какой он предстоятель, он воплощает и те Покрова Богородицы, которыми все еще укрыт обманутый вкладчик. В этой вере можно сомневаться, сам обряд можно обсудить в теологическом диспуте. В конце концов, можно пенять князю Владимиру, зачем выбрал православие, а не иудаизм, где убранство храма попроще. Можно, как говорено выше, алкать перемены православия на лютеранство и полагать, что вслед за лютеровской «боевой проповедью против турок» возникнет новый поворот в замирении Кавказа. А можно — и это наиболее благородно для менеджера наших дней — обратиться к толстовству.
Лев Толстой не признавал таинства Воскресения — в дни Пасхи Христовой об этом нелишне вспомнить. В этом было основное расхождение толстовского христианства с ортодоксальным православием. Он считал Иисуса смертным человеком, а чудо Воскресения трактовал — как мы знаем из одноименного романа — как духовное перерождение человека. Отказаться от греховной жизни, открыть себя к состраданию ближним, жить интересами всех, а не своей персональной наживы, — в этом, по Толстому, и есть чудо Воскресения, человеческого и общественного.
И если бы наше корыстное общество хотело такого Воскресения — было бы не жаль и согласиться с критикой церковного обряда. Но искать грехи предстоятелей и одновременно поклоняться золотому тельцу в лице самых вопиющих его жрецов — это поразительная особенность нашего кривого времени.
И если у кого-то возникла мысль, что это есть путь к гражданскому обществу, то мысль эта в большей степени утопична, нежели насаждение коммунистических идеалов при помощи лагерей.
Почему я не ношу ленточки (14.09.2012)
http://www.openspace.ru/article/394
Легальный протест в демократическом государстве нужен. Протест столь же востребован, как авангардное искусство или институт косметологии. От авангардиста не надо ждать деяний Рембрандта: он не изображает движения души. Авангардист пришел демонстрировать наличие свободомыслия. Он ходит и говорит как свободный художник, он выполняет социальную роль художника — объединяет интересы галериста и банкира. А то, что он не умеет рисовать, значения не имеет. Дама, которая прошла курс омоложения, не молодеет: селезенка, сердце, кости, кишечник, мозги — все прежнее. Однако пластические хирурги обновили фасадную часть дамы. Легальный протест не для того придуман, чтобы изменить характер общества. Но протест создает социальную вибрацию, нужную для кадровых перемен. Точно так же, как подтягивание кожи за ушами разглаживает морщины на лице. Иной буквоед упрекает авангардиста в пустоте, а моралист говорит, что нечего молодиться — надо с внуками сидеть; эти зануды неправы. Современное общество должно выглядеть молодым — все приведенные примеры есть не что иное, как омолаживающие процедуры. Только бы не закралось подозрение в застое!