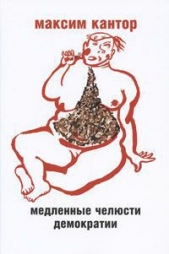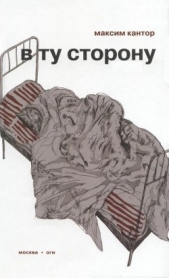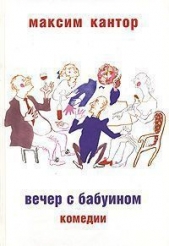Сетевые публикации

Сетевые публикации читать книгу онлайн
Работы художника Максима Кантора находятся в Британском музее, в Третьяковской галерее, во многих галереях Европы и США. Максим Кантор-писатель известен в первую очередь как автор романа «Учебник рисования», который критики назвали одновременно пособием по рисованию, антипостмодернистским манифестом, политической сатирой и философическим трактом и который вызвал в середине нулевых большую полемику. Максим Карлович Кантор часто отзывается о делах повседневных и мимолетных — к примеру, всяческих социально-политических событиях. Однако его отзывы об этом таковы, что по ним лет через дцать вполне можно будет собирать учебник по Истории. В мимолетном Кантор неизменно замечает вечное и, кажется, предпочитает именно такой способ изучения бытия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Золото и пурпур византийского обряда — это сияние небес и кровь Христова, но князь Владимир объяснений богословов не знал, в выборе религии руководствовался красотой службы. Поскольку эстетика Корбюзье в то время еще не овладела умами, красотой почитались богатство и пышность. Князь выбрал церковь, которая наглядно являет могущество. Европейские храмы того времени были просты — лишь спустя два века после выбора Владимира аббат Сюжер убедил, что богатство и изощренность храма — ко славе Господней; так возникла готика. Православный храм всегда был пышен, а обряд — велеречив.
Православные не баптисты, не квакеры и не сайентологи. Православный храм не протестантский молельный дом, в котором можно находиться, не снимая головного убора (квакерский обычай). Православный храм поражает величием. Роскошь не прихоть того или иного архипастыря — это дань обряду. Патриарх — по чину, а не по алчной прихоти (хотя иногда это совпадает, тяга к роскоши может быть особенностью человеческой) — облачен в драгоценные ризы и живет богато. Власть и слава собора и архипастыря уравновешены в православии несуетным равенством в мире общины, смиренным батюшкой, нищим, как и его паства, деревянной церковью в селе. Православная икона порой грозит, а часто блещет величием (Христос во славе, или Спас Ярое Око), но образ Покрова Богородицы (католический аналог — Мадонна Мизерикордия) утешает и согревает. Пренепорочная укрывает целебным своим омофором всех — нищих и властных, классовых врагов, представителей воюющих корпораций.
Многие православные богословы пытались примирить пышный обряд и мягкую веру сельской прихожанки. Некогда отец Павел Флоренский сформулировал простой тезис: «Что полезнее — дать больному лекарство или обучать медицине?» Он, несомненно, выбрал путь врача, дающего лекарство, — но были русские мыслители, которые хотели разобраться в медицине.
Сегодняшняя критика церкви как раз такого, общего порядка — претензия, вмененная храму и патриарху, должна быть переадресована всей русской культуре, воспитанной на осмыслении Православной церкви. Русская культура знает несколько ответов на этот вопрос.
Например, Лев Николаевич Толстой расходился с ортодоксальной верой во многом; о главном, в чем Толстой не совпадал с каноном, речь впереди, но, в частности, он не любил обрядовую церковь, богатство напоказ. Лев Николаевич не любил стяжательство как таковое — вероятность того, что он стал бы хулить патриарха и одновременно славить миллиардера Прохорова и его благостную сестру, исчезающе мала.
Прихотливое прочтение Толстого, следование одним из толстовских заповедей, но забвение других — это для русских бунтов не новость, противоречия Толстого мы любим корректировать.
Существует известная ленинская трактовка («Лев Толстой как зеркало русской революции») — Ленин рассказывает о том, что противоречия Льва Николаевича, а именно ненависть к угнетению и одновременно непротивление злу насилием и т. п., отражают комплексный характер перемен в русской жизни. С одной стороны, крестьянство хочет смести институты угнетения, в том числе церковь, с другой — цепляется за патриархальный уклад. То есть крестьянин жадных попов не любит и угнетателей готов спалить, но отказаться от мира общины не готов. Однако эта слабость, пишет Ленин, будет преодолена, и рано или поздно из крестьянства выкуют железные батальоны, а свои анархические идеалы мужикам придется забыть.
Мы знаем сегодня, что в этом направлении было сделано много; Толстой к произволу отношения не имеет никакого.
Нынешняя ситуация болезненно напоминает начало прошлого века, а метания крестьянства — рыхлое сознание горожанина. Именно горожанина, как иначе назвать героя сегодняшних споров? Сегодняшний полемист уже не крестьянин, совсем не пролетарий, совершенно не интеллигент, а как определить менеджера, имеющего бабушкину библиотеку с трудами Толстого, — неизвестно. Его сознание, вспаханное представлением о финансовом капитализме как пике истории и гражданскими свободами, которыми он наделен по праву, есть желанное поле для сеятеля, как некогда сознание общинного крестьянина. Требуется совместить призыв к нестяжательству и капитализм как идеал развития общества. Служа в корпорации, спекулируя акциями, заботясь о марже, надо одновременно сохранить неприязнь к мздоимству. И это архитрудная задача, стоящая перед горожанами сегодня. Есть выход: сказать, что мы против коррупции, но за честное преумножение богатств. Здесь — трудность, поскольку всякая спекуляция есть непременная коррупция, вне скрытого соглашения сторон эта деятельность невозможна (искусственное занижение стоимости акций, например, на коем построено все хозяйство), а значит, надо говорить о приемлемом для правового сознания уровне коррупции. Задача, как говаривал Ульянов, «дьявольски сложная»!
Время явило поразительные типы: сотрудник беглого олигарха, очевидным образом обворовавшего страну, упрекает церковь во мздоимстве; спекулянт биржевыми акциями, каковые были введены поверх общества, делается знаменем борьбы за равенство граждан перед законом — это на первый взгляд сочетание несочетаемого, однако это герои нашего времени. Время такое, противоречивое. И если в книгах Толстого как в зеркале можно было разглядеть противоречия русского крестьянина, то противоречия души менеджера разглядеть негде. Зеркало треснуло.
Точнее сказать, зеркало разбилось на тысячу осколков — а осколки цельный образ не отражают. Нет более общего интереса, а стало быть, нет общества, и общественной совести нет; нет классов — стало быть, нет классового сознания. Зато представлены корпорации — и, соответственно, появилась корпоративная совесть. Корпоративная совесть напоминает совесть обычную, но имеет локальную сферу применения.
Можно было бы предположить, что современное наше общество, положившее в основу гражданских прав собственность, приобретательство и стремление к накопительству, отнесется к церковной роскоши благосклонно. Но этого, однако, не произошло, поскольку богатство в данном случае представляет доходы иной корпорации, не той, где числится протестная публика. В этих вопросах члены корпораций щепетильны. Вообразить, что литератор — лауреат премии «Дебют» задается вопросом о генезисе средств учредителя премии Андрея Скоча, невозможно; и в бреду менеджер корпорации Абрамовича не заинтересуется, на какие средства финансируется современное искусство, уж не Антон ли Могилевский заложил основы нашего непорочного дискурса? А обнародовать размеры неправедно нажитых и отмытых средств в галерейно-выставочном бизнесе было бы самоубийственно. Тем достаточно. И, однако, именно корпорация «Православие» вызвала наипринципиальнейший гнев. Будь общество цельным, мы бы сказали: как же, ведь это же совесть народа! Однако народ (т. е. инертная масса, каковую принято именовать «быдлом») и сам подвергся критике, его пристрастия вряд ли ценятся. Критикует церковь агностик, желая повышения эффективности работы православной корпорации.
Руководствуясь идеалами либерального капитализма, мы сегодня разоблачаем Православную церковь — и на первый взгляд риторика совпадает с былой, с советской риторикой. Понятно, что ископаемый большевик пенял батюшкам за ихние хоромы («все люди братья — люблю с них брать я»), но пристало ли это тем, кто положил в основу прогресса рынок, слияния и поглощения, правду сильного? И главное: те же прогрессивные люди, которые сегодня разглядели дефекты РПЦ, вчера сетовали на трудности, которые переживает церковь при социализме. Совсем недавно привычным занятием интеллигенции была охота за иконами в разоренных провинциальных церквах. Но одновременно коллекционировали «Вестники РХД» и ждали возрождения. Это было всего двадцать лет назад. Будущие менеджеры, что сегодня негодуют на алчность попов, вчера горевали о разорении имущества батюшек. Что же поменялось? Православие ли стало иным? Или чаяли увидеть какую-то иную церковь, не православную? Но почитайте сказки Афанасьева: спокон веков народ высмеивал жадных попов, а помянутый выше отец Павел Флоренский иронизировал над склонностью батюшек к алкоголю. И критики православия не одиноки: если заглянуть в новеллы итальянского Возрождения, узнаешь много такого про монахов, что уважения не вызывает, с обличениями церковного лицемерия выступали гуманисты и просветители Европы — кстати сказать, многие из аргументов были унаследованы советской властью, взрывавшей монастыри и храмы.