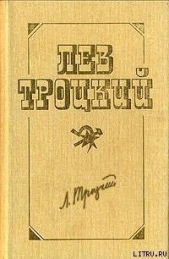Проблема культуры (сборник очерков и статей)

Проблема культуры (сборник очерков и статей) читать книгу онлайн
«Последняя цель культуры — пересоздание человечества; в этой последней цели встречается культура с последними целями искусства и морали; культура превращает теоретические проблемы в проблемы практические; она заставляет рассматривать продукты человеческого прогресса как ценности; самую жизнь превращает она в материал, из которого творчество кует ценность» — эти положения, сформулированные Белым в очерке «Проблема культуры», вошедшем в первую книгу трехтомника — «Символизм», легли в основу многих его работ.
Сборник статей и очерков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот так действительность! После сваянных из облачного блеска тел выползают у него бараньи хари, мычащие на нас, как два быка, выползают редьки с хвостами вверх и вниз, с табачного цвета глазами и начинают не ходить, а шмыгать, семенить — бочком-бочком; и всего ужасней то, что Гоголь заставляет их изъясняться деликатным манером; эти «редьки» подмигивают табачного цвета глазками, пересыпают речь словечками «изволите ли видеть», и докладывает нам о них Гоголь не просто, а со странной отчаянной какой-то веселостью, у заседателя нижняя часть лица не баранья, а «так сказать» баранья — «так сказать», от незначительного обстоятельства: оттого, что в момент появления на свет заседателя баран подошел к окну: ужасное «так сказать». Здесь Гоголя называют реалистом, — но помилуйте, где же тут реальность: перед нами не человечество, а дочеловечество; здесь землю населяют не люди, а редьки; во всяком случае этот мир, на судьбы которого влияет баран, подошедший к окну, пропавшая черная кошка («Старосветские помещики») или «гусак» — не мир людей, а мир зверей.
А все эти семенящие, шныряющие и шаркающие Перепенки, Голопупенки, Довгочхуны и Шпоньки — не люди, а редьки. Таких людей нет; но в довершение ужаса Гоголь заставляет это зверье или репье (не знаю, как назвать) танцовать мазурку, одолжаться табаком и даже более того, — испытывать мистические экстазы, как испытывает у него экстаз одна из редек — Шпонька, глядя на вечереющий луч; и даже более того: амфибии и рептилии у него покупают человеческие души. Но под какими же небесами протекает жизнь этих существ? «Если бы… в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом», — замечает Гоголь в одном месте. «Темно и глухо (в ночи), как в винном погребе» («Пропавшая грамота»). Гоголь умел растворять небо восторгом души и даже за небом провидел что-то, потому что герои его собирались разбежаться и вылететь из мира; но Гоголь знал и другое небо, как бараний тулуп и как крышка винного погреба. И вот, едва снимает он с мира кисею своих грез, и вы оказываетесь уже не в облаках, а здесь, на земле, как это «здесь» земли превращается в нечто под бараньим тулупом, а вы — в клопа, или блоху, или (еще того хуже) — в редьку, сохраняемую на погребе.
И уже другая у Гоголя начинается сказка, обратная первой. Людей не знал Гоголь. Знал он великанов и карликов; и землю Гоголь не знал тоже — знал он «сваянный» из месячного блеска туман или черный погреб. А когда погреб соединял он с кипящей месячной пеной туч или когда редьку соединял он с существами, летающими по воздуху, — у него получалось странное какое-то подобие земли и людей; та земля — не земля: земля вдруг начинает убегать из-под ног; или она оказывается гробом, в котором задыхаемся мы, мертвецы; и те люди — не люди: пляшет казак — глядишь: изо рта побежал клык; уплетает галушки баба — глядишь: вылетела в трубу; идет по Невскому чиновник — смотрит: ему навстречу идет собственный его нос. И как для Гоголя знаменательно, что позднейшая критика превратила Чичикова — этого самого реального из его героев — ни более ни менее как в чёрта; где Чичиков — нет Чичикова: есть «немец» со свиным рылом, да и то в небе: ловит звезды и уже подкрался к месяцу. Гоголь оторвался от того, что мы называем действительностью. Кто-то из-под ног его выдернул землю; осталась в нем память о земле: земля человечества разложилась для него в эфир и навоз; а существа, населяющие землю, превратились в бестелесные души, ищущие себе новые тела: их тела не тела — облачный туман, пронизанный месяцем; или они стали человекообразными редьками, вырастающими в навозе. И все лучшие человеческие чувства (как-то: любовь, милосердие, радость) отошли для него в эфир… Характерно, что мы не знаем, кого из женщин любил Гоголь, да и любил ли? Когда он описывает женщину — то или виденье она, или холодная статуя с персями, «матовыми, как фарфор, не покрытый глазурью», или похотливая баба, семенящая ночью к бурсаку. Неужели женщины нет, а есть только баба или русалка с фарфоровыми персями, сваянная из облаков?
Когда он учит о человеческих чувствах, — он резонирует и даже более того: столоначальнику советует помнить, что он — как бы чиновник небесного стола, а в николаевской России провидит он как бы «град новый, спускающийся с неба на землю».
Радуется ли Гоголь? нет, темнеет с годами лицо Гоголя; и умирает Гоголь со страху.
Невыразимые, нежные чувства его: уже не любовь в любовных его грезах — какой-то мировой экстаз, но экстаз невоплотимый; зато обычные чувства людей для него — чувства подмигивающих друг другу шпонек и редек. И обычная жизнь — сумасшедший дом. «Мне опротивела пьеса („Ревизор“), — пишет Гоголь одному литератору, — я хотел бы убежать теперь…» «Спасите меня! Дайте мне тройку, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик… взвейтесь, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего…» («Записки сумасшедшего»).
Не должен ли Гоголь в этом мире своих редек и блистающих на солнце тыкв с восседающим среди оных Довгочхуном воскликнуть вместе со своим сумасшедшим: «Далее, далее — чтобы не было видно ничего».
Я не знаю, кто Гоголь: реалист, символист, романтик или классик. Да, он видел все пылинки на бекеше Ивана Ивановича столь отчетливо, что превратил самого Ивана Ивановича в пыльную бекешу: не увидел он только в Иване Ивановиче человеческого лица; да, видел он подлинные стремленья, чувства людские, столь ясно глубокие разглядел несказанные корни этих чувств, что чувства стали уже чувствами не человеков, а каких-то еще невоплощенных существ; летающая ведьма и грязная баба; Шпонька, описанный, как овощ, и Шпонька, испытывающий экстаз, — несоединимы; далекое прошлое человечества (зверье) и далекое будущее (ангельство) видел Гоголь в настоящем. Но настоящее разложилось в Гоголе. Он — еще не святой, уже не человек. Провидец будущего и прошлого зарисовал настоящее, но вложил в него какую-то нам неведомую душу. И настоящее стало прообразом чего-то… Но чего?
Говорят, реалист Гоголь — да. Говорят, символист он — да. У Гоголя леса — не леса; горы — не горы; у него русалки с облачными телами; как романтик, влекся он к чертям и ведьмам и, как Гофман и По, в повседневность вносил грезу. Если угодно, Гоголь — романтик; но вот сравнивали же эпос Гоголя с Гомером?
Гоголь гений, к которому вовсе не подойдешь со школьным определением; я имею склонность к символизму; следственно, мне легче видеть черты символизма Гоголя; романтик увидит в нем романтика; реалист — реалиста.
Но подходим мы не к школе — к душе Гоголя; а страдания, муки, восторги этой души на таких вершинах человеческого (или уже сверхчеловеческого) пути, что кощунственно вершины эти мерить нашим аршином; и аршином ли измерять высоту заоблачных высот и трясину бездонных болот? Гоголь — трясина и вершина, грязь и снег; но Гоголь уже не земля. С землей у Гоголя счеты; земля совершила над ним свою страшную месть. Обычные для нас чувства — не чувства Гоголя: любовь — не любовь; веселье — и очень невеселье; смех — какой там смех: просто рев над бекешей Ивана Ивановича, и притом такой рев, как будто «два быка, поставленные друг против друга, замычали разом». Смех Гоголя переходит в трагический рев, и какая-то ночь наваливается на нас из этого рева: «И заревет на него в тот день как рев разъяренного моря; и взглянет он на землю — и вот тьма и горе, и свет померк в облаках», — говорит Исайя (V, 30). Гоголь подошел к странному какому-то рубежу жизни, за которым послышался ему рев; и этот рев превратил Гоголь в смех: но смех Гоголя — колдовской; взглянет на землю Гоголь, рассмеется — «и вот тьма и горе», хотя солнце сияет, «ряды фруктовых деревьев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом». Так прибирает поверхность земли Гоголь сказочным великолепием в своих реалистических рассказах (как, напр., в «Старосветских помещиках»). Но за этим великолепием, как за неким ковром золотым, накинутым над бездной ужаса. «бездна», по слову пророка Аввакума, для Гоголя «дала голос свой, высоко подняла руки свои» (Аввакум. III, 10). И вот вслед за описанием мертвой жизни Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны — описанием, в котором, казалось бы, нет ничего таинственного, описанием, в котором все ясно, как днем, где жизнь их озарена великолепием идиллии, как залит их сад багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, — даже за этим великолепием золотого полудня посещает Гоголя бездна страха, как и Пульхерию Ивановну посещает бездна в образе черной кошки. И тут же, обрывая идиллию, Гоголь нам признается: «Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась с человеком… Я помню, что в детстве я часто его слышал… День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, тишина была мертвая, даже кузнечик переставал трещать; ни души в саду. Но признаюсь, если бы ночь, самая бешеная и бурная, со всем адом стихий настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня» («Старосветские помещики»). Этот страх полудня, когда земная отчетливость явлений выступает с особенной ясностью, древние называли паническим ужасом; и в Библии отмечен ужас этот: «Избавь нас от беса полуденна». Великий Пан или бес (не знаю кто) из лесных дебрей души подымал на Гоголя лик свой, и, ужаснувшись этого лика, Гоголь изнемогал в полуденной тишине среди яхонтовых слив, дынь, редек и Довгочхунов, и в каждом Довгочхуне виделся Гоголю Басаврюк, и каждый чиновник именно днем, а не ночью становился для него оборотнем.