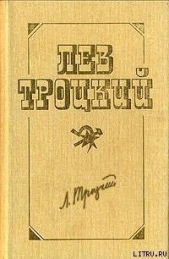Проблема культуры (сборник очерков и статей)

Проблема культуры (сборник очерков и статей) читать книгу онлайн
«Последняя цель культуры — пересоздание человечества; в этой последней цели встречается культура с последними целями искусства и морали; культура превращает теоретические проблемы в проблемы практические; она заставляет рассматривать продукты человеческого прогресса как ценности; самую жизнь превращает она в материал, из которого творчество кует ценность» — эти положения, сформулированные Белым в очерке «Проблема культуры», вошедшем в первую книгу трехтомника — «Символизм», легли в основу многих его работ.
Сборник статей и очерков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это признание отразилось на судьбах современной русской литературы.
Слишком много увидел в будущем Достоевский. Но в окружающей действительности ничего не увидел, все перепугал. Достоевский — горожанин: голодные деревеньки, полынь и овраги русской действительности (много оврагов) не волновали его: благоговейно склоняемся мы перед исповедью Некрасова: «Мать-отчизна! Дойду до могилы, не дождавшись свободы твоей… Но желал бы… чтобы ветер родного селенья звук единый до слуха донес, под которым не слышно кипенья человеческой крови и слез». И наша молодежь десятилетия внимала этим словам: молодежь осмеял Достоевский в безобразной пародии на то, как русский народ «от Тамбова до Ташкента с нетерпеньем ждал студента». Повторяю: Достоевский был слеп тут: его ослепило будущее: и все-таки молодежь приняла Достоевского.
Если приняла его, то примет и то, о чем кричал Достоевский (ведь он — «не во имя свое»), пойдет гуда, куда призывал Достоевский: к религиозному будущему нашей страны.
Русская интеллигенция не видела того, что открылось Достоевскому в будущем; но русская интеллигенция видела и слышала то, чего не видел и не слышал Достоевский в настоящем: видела овраги российской низменности и странника, слышала его голос в полях:
Достоевский сумел религиозно осветить будущее народа. Но связи будущего с настоящим не нашел: остался без почвы. Русская интеллигенция сумела в настоящее внести религиозное отношение: заботы о хлебе народном разожгла она в жертвенный огонь; вся она — борьбы роковой жертва: жертвовать можно только не во имя свое: и хлеб земной русская интеллигенция непроизвольно превратила в символ. Достоевский имел символическое видение: «град новый». Вот почему приблизил он к нам образы Апокалипсиса. Но может ли спуститься на землю видение «града»; может ли облачное видение стать хлебом насущным? Символы русской интеллигенции имели другую форму, нежели символы Достоевского. Была ли за теми и другими соединяющая их реальность? Да, была, потому что Достоевский и русская интеллигенция встретились теперь — независимо от формы культов. Культ русской интеллигенции оформился ныне в молитвах о хлебе насущном для народа, форма этого культа претила Достоевскому; он называл этот культ «беснованием». Культ Достоевского оформился в проповеди православия: форму этого культа Русская интеллигенция определила как «мракобесие». Мракобесие столкнулось с беснованием — и неожиданно слилось, неожиданно встретилось в наших сердцах сокровенное, тайное этих форм: и тогда оказалось в глубине религиозного опыта, что мракобесие Достоевского — личина, что вовсе не православен он, что и он — о хлебе народном; беснование русской интеллигенции оказалось молитвой к дальнему.
Ныне не боимся мы беснования, как вовсе не устрашает нас уже сила мракобесия. Так изгоняем мы беса из сердца русской действительности на поверхность ее: отрицая догматы православия, принимаем религиозные символы; отрицая догматы марксизма, принимаем символы преображения земли.
Так сомкнулись две линии в одну: русская литература с русской жизнью, слово с плотью. Но тут же мы поняли, что пересечение обеих линий — впереди, в будущем: мы поняли только то, что пересечение возможно: продолжая общественность за горизонт догматизма, мы видим, что оправдание ее — в религии; продолжая историческую религию за горизонт прошлого, мы видим, что оправдание ее — не в истории вовсе. В свете искомого соединения религиозные догматы претворяются в символы жизненных ценностей, а догматы русской интеллигенции претворяются в живые символы религии.
Русской литературе открывается новая жизнь; русской жизни дается новое слово, творческое, действующее слово. Старая жизнь перестает быть жизнью; русская литература — не вовсе литература. К этому мы пришли только теперь. Но не то было в недавнем прошлом. В недавнем прошлом, после Достоевского, литература иссякает — прежняя, тенденциозная, живая: кряж ее обрывается (Короленко, Горький): она обращается к перепеву; правда, она выдвигает новые общественные элементы, новые мотивы, но она не несет новой живой проповеди; и тенденция в русской литературе все более и более вырождается или иссякает вовсе; это потому, что самые важные, самые нужные слова о деле сказаны, а дела — нет.
И там, где иссякает тенденция, проповедь, — расцветает пышно стилистика, развивается форма: что заменяется как. «Как умело выражается Чехов, как говорят, двигаются его герои», — восхищаемся мы, но что ведет их, что несут они нам, мы не знаем: в слове выражается их как, в немоте их что и для чего: еще шаг: и слова потеряют смысл, еще шаг — и слова превратятся в музыку, а литература — в новый смычок в симфоническом оркестре.
Еще шаг — и соборность нашей литературы сменится крайним индивидуализмом. Так и случилось.
«De la musique avant toute chose», — раздается в России лозунг Верлена.
Никогда на Западе тенденциозная проповедь не была так иррациональна, как в России; литературный рационализм заел беллетристику Запада; и потому-то в западной литературе поднялся бунт против литературного рационализма. Литература Запада старее литературы русской; реальные заслуги ее — в ряде технических завоеваний; техника в ней реальнее проповеди. Проповедь засыпала личность на Западе мертвыми словами. И восстала личность на мертвое слово: личность тогда в слове увидела музыку, в бессловесном увидела она жизнь. Техника соединилась с музыкой; слова обернулись в символы: песни без слов. Литературная техника стала клавиатурой песни: индивидуализм подал руку академизму. в борьбе с холодной жизненностью, живое предстало в мертвом саване. И пока происходило на Западе такое оборотничество, мы не имели времени вглядеться в личину оборотня: в оборотней мы не верили; и мы не верили в жизненность символизма; да и, кроме того, слишком были мы заняты нашей родною болью, нашим огненным словом литературы: в преемниках Толстого, Достоевского и Некрасова чтили мы великих учителей, не замечая налета мертвенности в позднейшей литературной проповеди; в потухающих углях мы видели пламя, в теплой золе — летучий дым.
И только тогда мы очнулись, когда первая фаланга победоносного войска индивидуалистов предстала пред нами с лозунгами: «Ницше, Ибсен, Уайльд, Метерлинк, Гамсун». «Что это — войско призраков?» — воскликнули мы, но призраков и нет вовсе. А между тем символисты Запада скинули маску, превратились в проповедников, проповедников иного, им неведомого, совершенства: они несли культ личности в жизнь, культ музыки в поэзию, культ формы в литературу.
И первые перебежчики войска призраков, русские символисты, казались нам выходцами с того света, мертвецами, изменниками; в мелодии их слов мы слышали только безумие, в проповеди формы — холодное резонерство, в признании личности — эгоизм. «Это царское платье», — кричали мы; царское платье царским платьем не оказалось, — но платьем оказалось оно, и хорошим платьем. Казалось, над линией русской литературы обозначилась новая линия без связи с прежней. Тогда с большим воодушевлением присягнула русская интеллигенция полумертвой общественной тенденции в русской литературе, с негодованием прокляла она войско призраков символизма.
По граням соприкосновения двух литературных течений, призрачного и реального, закипела борьба. Она началась огульным хохотом по адресу призраков (или декадентов, как их тогда называли [Так называют символистов и поныне; это бессмысленное прозвище укоренилось теперь, когда обнаружилось, что декаденты — это те же романтики, классики, визионеры, равно как и академисты прежнего времени. ]); но призраки заявили о своем действительном существовании; ничтожная горсть декадентов на хохот ответила вызовом, на полемику — полемикой. Против знамени Некрасова, Горького, Чехова, Гл. Успенского выдвинули западноевропейские знамена и притом так, что скоро умолк хохот русской критики, сменяясь откровенной бранью и улюлюканьем; над призраками посмеялись, но они взяли да и воплотились. А русская интеллигенция, перед которой происходила борьба, обратилась к новым знаменам, отвертываясь от знаменосцев: приняла Ницше и Ибсена, не видя Брюсова, Мережковского и Бальмонта: получилось впечатление, будто знамена индивидуализма прискакали в Россию сами на своих древках, так что русская интеллигенция думала потом, что сама она внесла в Россию культ индивидуализма.