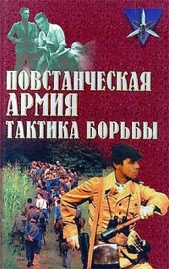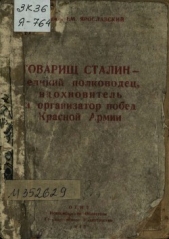Сталин и писатели Книга четвертая
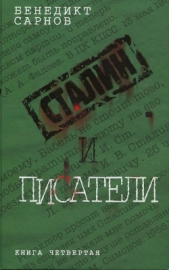
Сталин и писатели Книга четвертая читать книгу онлайн
Четвертый том книги Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» по замыслу автора должен стать завершающим. Он состоит из четырех глав: «Сталин и Бабель», «Сталин и Фадеев», «Сталин и Эрдман» и «Сталин и Симонов».
Два героя этой книги, уже не раз появлявшиеся на ее страницах, — Фадеев и Симонов, — в отличие от всех других ее персонажей, были сталинскими любимцами. В этом томе им посвящены две большие главы, в которых подробно рассказывается о том, чем обернулась для каждого из них эта сталинская любовь.
Завершает том короткое авторское послесловие, подводящее итог всей книге, всем ее четырем томам,
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это уже похоже на АНТИТЕЗИС. А вот и СИНТЕЗ. Точнее - ПОПЫТКА СИНТЕЗА
► Центростремительная пьеса превратилась в центробежный спектакль. Постановка — перспектива разрозненных картин, многие из которых сделаны театром и Акимовым с увлекающей смелостью и яркой зрелищностью. Заслуга Акимова, что он хоть и погубил Гамлета, но вывел на свет божий бывшие в загоне образы от Клавдия, в котором Симонов с тонким искусством показал не настоящего, а «примазавшегося» короля, и Полония (Щукин) до Лаэрта (Шихматов) и Гильденштерна и Розенкранца, которые обычно только обслуживали Гамлета, сами оставаясь в тени...
Кроме идеи пьесы, есть идея спектакля, навеянная «Принцессой Турандот». Идея — разоблачение высокого штиля трагедии, издевка над вековой коленопреклоненной почтительностью перед «Гамлетом». Поэтому: невинная Офелия — великосветская потаскушка. Стремительный Лаэрт — галльский петушок. Лукавый Полоний — гороховый шут. Мрачный Гамлет — в ночной сорочке с кастрюлей и огромной морковью. Он же в самом патетическом месте наступает на шлейф королеве. Умирающий Полоний деловито заявляет: «зарезали». Король датский бегает в кальсонах. Пышный Эльсинор показан с заднего двора. Сумасшествие Гамлета — забава, простой «розыгрыш». И как символ этой пародии — трагическое представление актеров, превращенное в фарс.
Для каждого из персонажей трагедии, на свой лад трактуемых и изображаемых режиссером, рецензент нашел какие-то добрые слова. Далее для невинной Офелии, превращенной в великосветскую потаскушку. Даже в этом гротескном превращении он сумел разглядеть какой-то смысл. И только для одного — главного персонажа трагедии — для Гамлета не нашлось у него ни единого доброго слова.
Впрочем, нет. Одно доброе слово даже для этого «перечеркнутого», вывернутого наизнанку и потому провалившегося Гамлета у него все-таки нашлось:
► Превосходна сцена выхода Гамлета под проникновенную траурную музыку Шостаковича, который, пожалуй, единственный в этом спектакле не ссорился с Шекспиром.
Так оно, наверное, и было. Не стану же я, — не видевший этого спектакля, — спорить с тем, кто был в числе его зрителей.
Но одну поправку в эту тактичную реплику (тактичную, скорее, по отношению к Шостаковичу, чем к Акимову или Горюнову) я все-таки осмелюсь внести.
Был, был в этом спектакле еще один человек, не пожелавший ссориться с Шекспиром
Этим вторым (кроме Шостаковича) участником спектакля, умудрившимся не поссориться с Шекспиром, был Николай Робертович Эрдман.
Ему Акимов заказал для этого спектакля две интермедии. И Эрдман этот заказ реализовал с присущим ему мастерством. Я бы далее сказал — с блеском.
Первая интермедия являла собой диалог Гамлета с Розенкранцем о труппе бродячих актеров, которых Гамлет собирается пригласить, чтобы они разыграли перед королем Клавдием и его свитой сцену так называемой «Мышеловки».
Действие второй происходит на кладбище. Это — сцена-диалог двух могильщиков, которых Эрдман изобразил шутами. В отличие от первой она являет собой чистый дивертисмент, набор остроумных реприз, и в сюжет пьесы практически не включена.
Она тоже представляет для нашей темы некоторый интерес, но я остановлюсь только на первой. Главным образом потому, что в ней действует Гамлет, и тут нам особенно интересно будет проследить, КАКОГО Гамлета изобразил в этой своей интермедии Эрдман — искаженного до неузнаваемости акимовского или — настоящего, шекспировского:
► Р о з е н к р а н ц... и они едут сюда предложить вам услуги!
Г а м л е т. Актеры? Я люблю актеров. Герой, который изображает из себя короля, мне гораздо приятнее, чем король, изображающий из себя героя. Умный шут, играющий маленькую роль на сцене, не лучше ли глупого шута, играющего большую роль при дворе? Первый любовник в театре остается первым любовником до конца представления, даже если между одним актом и другим проходит десять лет... А что это за актеры?
Р о з е н кр а н ц. Те самые, которые вам так нравились. Здешняя городская труппа.
Г а м л е т. Как это случилось, что они странствуют? Ведь давать представления в одном месте выгоднее и для славы, и для кармана.
Р о з е н к р а н ц. Мне кажется, что это происходит от последних новшеств: раньше зритель приезжал в театр, теперь театр приезжает к зрителю.
Г а м л е т. Что же, они так же популярны, как в то время, когда я был в городе? Их представления посещаются так же охотно?
Р о з е н к р а н ц.О нет, принц, — много хуже.
Г а м л е т. Почему? Разве у них изменился репертуар?
Р о з е н к р а н ц. Нет, у них изменилась публика.
Г а м л е т. Что же, разве новая публика перестала понимать старых авторов?
Р о з е н к р а н ц. Нет, старые авторы перестали понимать новую публику.
Г а м л е т. Но разве в театре нет новых авторов?
Р о з е н к р а н ц. Есть.
Г а м л е т. Почему же они не пишут новых пьес?
Р о з е н к р а н ц. Потому что они предпочитают переделывать старые.
Г а м л е т. Чем вы это объясняете?
Р о з е н к р а н ц. Многие из них, вероятно, смущены проблемой творческого метода, споры о которой не прекращаются в Дании.
Г а м л е т. Споры о чем?
Р о з е н к р а н ц.О том, что является столбовой дорогой нашей датской литературы. Живой или неживой человек.
Г а м л е т. К какому же выводу пришли авторы?
Р о з е н к р а н ц. Они решили, что в настоящее время писать о живом человеке — это мертвое дело. Следовательно, нужно писать о неживом человеке, то есть о мертвом. О мертвом же принято либо хорошо говорить, либо не говорить ничего. А так как о том мертвом человеке, о котором они хотели говорить, ничего хорошего сказать нельзя, они и решили пока не говорить ничего.
Г а м л е т. Но есть все-таки новые пьесы, которые нравятся зрителям?
Р о з е н к р а н ц. Есть.
Г а м л е т. Почему же их не играют?
Р о з е н к р а н ц. Потому что они не нравятся критикам.
Г а м л е т. О каких критиках вы говорите?
Р о з е н к р а н ц. О тех, которые играют главную роль во время антракта.
Г а м л е т. И что же, они играют ее хорошо?
Р о з е н к р а н ц. Нет. Они играют свою роль под суфлера, в то время как вся публика уже знает эту роль наизусть.
Г а м л е т. Что же говорят критики?
Р о з е н к р а н ц. Они говорят всегда одно и то же.
Г а м л е т. Что же именно?
Р о з е н к р а н ц. Когда они видят героическую пьесу, они говорят, что этого еще недостаточно, а когда они видят сатирическую пьесу, они говорят, что это уже чересчур.
Г а м л е т. Но ведь в таком случае у авторов есть простой выход из положения.
Р о з е н к р а н ц. Какой?
Г а м л е т. Они должны делать наоборот: в сатирической пьесе говорить недостаточно, а в героической — чересчур.
Р о з е н к р а н ц. Вы совершенно правы, многие этим и занимаются.
Г а м л е т. Что же говорит критика?
Р о з е н к р а н ц. Она говорит, что этого еще чересчур недостаточно. А вот и актеры!
Каждая реплика этого диалога отражает жгучую злобу дня. Вот, например, Гамлет спрашивает Розенкранца, так же ли охотно люди теперь посещают театры, как раньше. — О нет, принц, — отвечает Розенкранц. — Много хуже.
► Г а м л е т. Почему? Разве у них изменился репертуар?
Р о з е н к р а н ц. Нет, у них изменилась публика.
Г а м л е т. Что же, разве новая публика перестала понимать старых авторов?
Р о з е н к р а н ц. Нет, старые авторы перестали понимать новую публику.
О том, как изменилась публика и почему старые авторы перестали ее понимать, Эрдман знал не как человек публики, а как человек театра. У него не было никаких иллюзий насчет того, какой публике должен будет он угодить своей новой пьесой. Более чем ясно мог он это себе представить по тому письму, которое получил от Вс.Э. Мейерхольда 19 марта 1928 года