Публицистика 1918-1953 годов
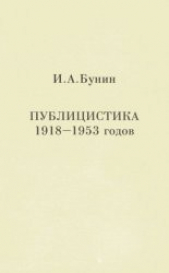
Публицистика 1918-1953 годов читать книгу онлайн
Книга включает в себя все выявленные на сегодняшний день тексты публицистических статей И. А. Бунина за период с 1918 по 1953 год. В большинстве своем публицистика И. А. Бунина за указанный период малоизвестна и в столь полном составе публикуется у нас впервые. Помимо публицистических статей И. Бунина в настоящее издание включены его ответы на анкеты, письма в редакции, интервью, представляющие как общественно-политическую позицию писателя, так и его литературно-критические высказывания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А кроме того, я знаю, что я так оробею перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком.
— Ну, полно, это ты сейчас дурака валяешь.
— Бог свидетель, нисколько не валяю. Вот если б ты свез меня как-нибудь к нему…
Я не замедлил сделать это и убедился, что все было правда: войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать… А вышел от него в полном восторге:
— Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот это человек! Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов.
— Спасибо, — сказал я, смеясь. Он захохотал на всю улицу.
Есть знаменитая фотографическая карточка, — знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в свое время в сотнях тысячах экземпляров, — та, на которой сняты Андреев, Горький, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московском немецком ресторане «Альпийская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:
— Опять сниматься! Все снимаемся! Сплошная собачья свадьба.
Скиталец обиделся:
— Почему же это свадьба, да еще собачья? — ответил он своим грубо-наигранным басом. — Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другие.
— А как же это назвать иначе? — сказа я ему. — Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россия гибнет, в ней «всякие напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней, «гордо реет буревестник, черной молнии подобный», а что в Москве, Петербурге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием: новый сборник «Знания», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова и всех ваших милостей, лихачи мчатся к Яру и в Стрельну…
Некто прозвал себя в мире скитальцем И по трактирам скитался действительно…
Дело грозило перейти в крупную ссору, но тут поднялся общий смех. Шаляпин закричал:
— Браво, правильно! А все-таки айда, братцы, увековечивать собачью свадьбу! Снимаемся мы, правда, частенько, да надо же что-нибудь потомству оставить после себя. А то пел, пел человек, а помер и крышка ему.
— Да, — подхватил Горький, — писал, писал — и околел.
— Как например я, — сумрачно сказал Андреев. — Околею в первую голову.
Он это постоянно говорил, все жаловался на сердце, на ужасные головные боли. И пророчество его, увы, оправдалось.
Все считали Шаляпина очень левым, даже революционером, ревели от восторга, когда он пел «Марсельезу» в конце «Двух гренадеров» или «Блоху», в которой тоже усматривали нечто революционное, сатанинское, издевательское над королями:
Жил был король когда-то, При нем блоха жила…
И вот, что же вдруг случилось? Сатана стал на колени перед королем, — по всей России прокатился умопомрачительный слух: Шаляпин стал на колени перед царем! Толкам об этом, возмущению Шаляпиным не было конца-краю; Амфитеатров был так возмущен, что возвратил Шаляпину его фотографическую карточку с дружеской надписью. И сколько раз потом оправдывался бедный Шаляпин в этом своем прегрешении! А какое же было прегрешение?
— Как же мне было не стать на колени? — говорил он. — Был бенефис императорского оперного хора, вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалованья, которое было просто нищенским, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился и стал. И что же мне, тоже певшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленопреклонения, как вдруг вижу: весь хор точно косой скосило на сцене, — весь он оказался на коленях, протягивая руки к царской ложе! Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом? Ведь это же был бы форменный скандал!
В России я видел его в последний раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже приехал в Петербург Ленин, встреченный оркестром музыки на Финляндском вокзале, когда он тотчас же внедрился в особняк Кшесинской. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашение от Горького присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горький должен был держать речь по поводу учреждения им какой-то «Академии свободных наук». Не понимаю почему, мы с Шаляпиным явились на это во всех смыслах нелепое сборище. Горький держал свою речь весьма долго и высокопарно и затем объявил:
— Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!
Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами и вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто-то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колени». Но он очень решительно сказал прибежавшему:
— Я не трубочист и не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале.
Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:
— Вот, брат, какое дело: и петь нельзя и не петь нельзя, — ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петь я не стану.
И так и не стал, несмотря на рев из зала.
А в прошлом году, в июне, я слушал его в последний раз в Париже. Он давал концерт, пел то один, то с хором Афонского. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен. Волновался он, по крайней мере, необыкновенно. Он всегда волновался, при всех своих выступлениях, — это дело обычное: я видел, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова, видел за кулисами после сыгранной роли Ленского и даже самого Росси, — войдя в свою уборную, они падали просто замертво, были бледны как смерть. То же самое бывало, думаю, и с Шаляпиным, только прежде публика этого никогда не видала. Но на этом, последнем концерте она видела, и Шаляпина спасал только его великий талант жестов, интонаций. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашел к нему. Я пошел. Он стоял как в тумане, держа папиросу в дрожащей руке, тотчас спросил меня:
— Ну, что, как я пел?
— Конечно, превосходно, дорогой мой, — ответил я. И пошутил:
— Так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику.
— Спасибо, пожалуйста, подпой, — ответил он со смутной улыбкой. — Мне, брат, нездоровится, уезжаю в Австрию, в горы. А ты?
Я опять пошутил:
— Да мне что ж уезжать, я почти всю зиму провел в горах: то Монмартр, то Монпарнас.
Он рассеянно и ласково улыбнулся.
Перечитывая Куприна *
Перечитывая Куприна, думая, между прочим, о времени его славы, вспоминаю его отношение к ней. Другие — Горький, Андреев, Шаляпин — жили в непрестанном упоении своими славами, в непрерывном чувствовании их не только на людях, во всяких публичных собраниях, но и в гостях друг у друга, в отдельных кабинетах ресторанов, — сидели, говорили, курили с ужасной неестественностью, каждую минуту подчеркивали избранность своей компании и свою фальшивую дружбу этими к каждому слову прибавляемыми «ты, Алексей, ты, Леонид, ты, Федор…» Куприн же, даже в те годы, когда едва ли уступал в российской славе не только Горькому, Андрееву, но и Шаляпину, нес ее так, как будто ровно ничего нового не случилось в его жизни. Казалось, что он не придает ей ни малейшего значения, ни в грош не ставит ее, дружит, не расстается только с прежними и новыми друзьями и собутыльниками вроде Маныча… Слава и деньги дали ему одно — уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет, жечь с двух концов свою свечу, посылать к черту все и вся.
— Я не честолюбив, я самолюбив, — как-то сказал я ему по какому-то поводу.
— А я? — быстро спросил он. И на минуту задумался, сощурив, по своему обыкновению, глаза и пристально вглядываясь во что-то вдали. Потом зачастил своей армейской скороговоркой: — Да, я тоже. Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости. А на честолюбие не имею даже права. Я писателем стал случайно, долго кормился чем попало, потом стал кормиться рассказишками, — вот и вся моя писательская история…


























