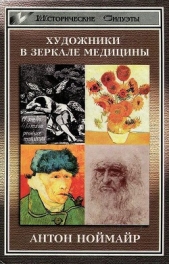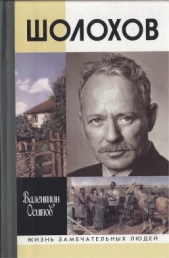Художники

Художники читать книгу онлайн
Свою книгу С. Дангулов назвал "Художники". Эта книга о мастерах пера и кисти. Автор словно вводит читателя в портретную галерею: М. Шолохов и А. Гончаров, Н. Тихонов и Кукрыниксы, М. Шагинян и В. Мухина, К. Симонов и Е. Кибрик, Р. Гамзатов и Н. Жуков... Здесь же портреты зарубежных мастеров - французского писателя Труайя и япопского архитектора Танге, итальянского писателя Дзаваттини и венгерского скульптора Маргариты Ковач. Книга воссоздает жизнь художника, его своеобычное, его новаторское существо. Автор раскрывает взаимосвязь искусств, их взаимовлияние, их взаимообогащение.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот они, эти строки:
Шуйский
...если сей неведомый бродяга
Литовскую границу перейдет,
К нему толпу безумцев привлечет
Димитрия воскреснувшее имя.
Царь
Димитрия!.. как? этого младенца!
Димитрия!..
Борис понимает: как ни груб этот прием с воскрешением царевича, он, этот прием, для деспота-царя смерти подобен, — в реакции Годунова, которому только что стала известна эта весть, и страх и смятение.
Именно этот страх, смешанный с яростью, заставит его минутой позже произнести:
...взять меры сей же час;
Чтоб от Литвы Россия оградилась
Заставами; чтоб ни одна душа
Не перешла на эту грань; чтоб заяц
Не прибежал из Польши к нам; чтоб ворон
Не прилетел из Кракова…
Художник точно засек этот момент, поворотный в ходе действия и в самой судьбе Годунова.
Страх объял Годунова, быть может, объял в такой мере впервые — он-то был не из робкого десятка («Он смел, вот всё...» — сказал Шуйский князю Воротынскому о Годунове). Этот страх тем более очевиден в сравнении с тем, как ведет себя стоящий рядом с царем Шуйский, фигура которого выказывает и робкое участие, и угодничество, и покорность. Впрочем, в рисунке Кибрика воссоздана подробность, объясняющая исчерпывающе состояние этих двух людей в роковую для царя минуту: это сильная, с растопыренными пальцами длань Годунова, все еще утверждающая державную силу, власть и точно опирающаяся на нее, а также слабая рука Шуйского, рука заметно робкая, которую он в смятении поднес ко рту, будто стараясь установить еще одну преграду от собственных уст к Годунову. Если в цикле, созданном Кибриком к «Борису Годунову», есть рисунок, в котором выражено существо пушкинского произведения, то это, конечно, вот этот рисунок царя и Шуйского.
Выразителен портрет Марины Мнишек — в точном соответствии с сутью наперсницы Отрепьева ее лицо точно рождено алым, сумрачным, тьмою. Луч света, ослепительный, осветил половину лица, полоску жемчуга... На нас глядит недоброе, но красивое лицо молодой женщины; очевидный гнев сомкнул губы, вздул ноздри, поднял и диковинно изогнул бровь, — кажется, не минет и секунды, как Марина произнесет:
Встань, бедный самозванец,
Не мнишь ли ты коленопреклоненьем,
Как девочке доверчивой и слабой,
Тщеславное мне сердце умилить?
Да, вот это удивительное свойство кибриковской работы: взглянешь на рисунок — кажется, установишь пушкинскую строку.
В цикле портретов к пушкинской драме свое большое место занимает портрет юродивого — мимо этого портрета не пройдешь равнодушно. Нет, не скоморох, развлекающий праздную толпу, не шут, тешащий знать, а храбрый страдалец за беды народа, его умный рачитель, его воинственно-неподкупный голос:
Нпколку маленькие дети обижают...
Вели их зарезать,
Как зарезал ты маленького царевича.
Борис — деспот лютый, но не теряющий ум и в страхе. Он не в силах поднять руку, свидетельствуя, что говорит и от имени народа.
Молись за меня, бедный Николка.
В словах юродивого неодолимая ирония, но лицо полно скорби, а в глазах огонь. У кибриковского юродивого горящие, больше того — скорбно-просветленные глаза, взывающие к совестливости и совести, справедливой каре, к отмщению.
В цикле рисунков к «Борису Годунову» художник будто набрал новые силы. Этот цикл знаменовал новый этап в творческом развития художника — иная манера письма, иной подход к самому восприятию литературного материала, иная степень психологического анализа характеров, — впрочем, многое тут шло и от пушкинского текста, который, очевидно, требовал другого художественного решения, чем «Кола», «Тиль» и даже «Бульба». Так пли иначе, а в «Борисе Годунове» мы увидели Кибрика, какого не знали прежде. Ну, разумеется, он сберег реалистическое существо своих поисков в искусстве, но приобрел нечто такое, что делало его художнический почерк более современным.
5
Казалось бы, когда путь художника измеряется десятилетиями, он не имеет права в семидесятых годах работать в той манере, в какой он работал в тридцатых. Возможно, это мнение и резонно, но оно должно быть реализовано осторожно.
Манера, как бы заявленная художником, не привносится извне, она возникает из самого существа его натуры, она для него органична. Поэтому каждый новый шаг истинный художник сверяет с этим своим существом, нерасторжимым. Быть может, так возникло то новое, что обнаружил Кибрик в иллюстрации к «Борису Годунову», а затем своеобразно преломил в другой работе, по-своему новаторской, — мы говорим о рисунках к повести Гоголя «Портрет». Художник скажет об этой работе:
— На мой взгляд, это лучшая книга о художнике в мировой литературе. Проблема повести — смысл жизни художника, призванного природой своего дела посвятить себя целиком искусству. Измена этой цели ради блага и радостей жизни трагически кончается потерей таланта, а вместе с тем и жизненной катастрофой художника.
Возможно, здесь есть своя закономерность: повесть Гоголя, с неумолимой верностью обнажившая проблему совести художника, сомкнулась в сознании Кибрика с его собственными раздумьями о жизни в искусстве, о пройденном пути. В своих рисунках художник мог и не пережить трагедии Чарткова, но и на его пути, конечно, встречались судьбы, отдаленно напоминавшие чартковские. Поэтому хотел того Кибрик или нет, работа над «Портретом» не отвергала и современных ассоциаций — кибриковские рисунки могли прямо и не говорить об этом, но в них были и недвусмысленный укор в адрес гоголевского героя, и осмысление его жизненных и художнических заблуждений, и, возможно, верность тем идеалам, которые, слава всевышнему, ничего общего не имели с чартковскими. Быть может, мы чуть-чуть усилили наше впечатление о кибриковских рисунках к повести, но если работа над рисунками к «Портрету» вызвала у художника в какой-то мере аналогичные ассоциации, это естественно.
Автолитографии к гоголевскому «Портрету», вначале десять больших настенных, затем сорок пять иллюстраций к книге, призваны раскрыть главный философский смысл повести: потеря таланта. Наверно, это одна из тех тем, которые, будучи актуальны в гоголевское время, не утратили своей остроты и сегодня. Слава? Одному она прибавляет требовательности, умения, таланта, ума. У другого она все это последовательно отнимает, приводя к краху, который тем более сокрушителен, чем самозабвеннее было опьянение славой. Перспектива стать модным одних привлекает, других страшит.
В том, что сделал Кибрик, иллюстрируя гоголевский «Портрет», есть добрый сатирический заряд. Да, это сатира на человека, который, решившись стать художником, обнаружил качества, искусству противопоказанные: легковерность и легкомыслие, а также неспособность к подвижническому труду, без которого нет искусства. Как ни верен образ Чарткова, созданный Кибриком, как ни точно соотнесен этот образ с гоголевским рисунком характера и эпохой, мы, зрители, видим в нем нашего современника, этакого преуспевающего молодого человека от живописи, как, впрочем, не только от живописи — от литературы, театра, музыки... Да, он именно один из тех, кто «живой в душу лезет», — надменно-самоуверенный и одновременно согбенный в своем подобострастии, в угодничестве своем. Жизненная и художническая философия Кибрика, где восхождение было медленным, а каждый новый шаг страховался подвижническим трудом десятилетий, должна была предполагать активное неприятие таких, как Чертков» — для него гоголевский герой — антагонист. Быть может, отчасти этим объясняется, сколь непримирим художник в своем неприятии Чарткова, сколь он к нему безжалостен в своем смехе, — Чартков, увиденный Кибриком, самонадеян, спесив, пуст и, в сущности, жалок. Наверно, чартковская одиссея была необходима Кибрику, чтобы высказаться по столь насущному вопросу: для него цикл рисунков к «Портрету» — это и немая реплика по остроактуальному вопросу, и исповедь, и, быть может, возможность утвердить принципы для художника священные. То, что это совпало с подведением некоторых итогов, а возможно, и известной ретроспекцией жизни Кибрика в искусстве, сообщает иллюстрациям к «Портрету» свой большой смысл.