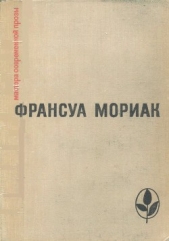He покоряться ночи... Художественная публицистика
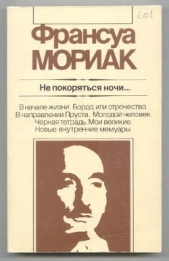
He покоряться ночи... Художественная публицистика читать книгу онлайн
В сборник публицистики Франсуа Мориака (1885—1970), подготовленный к 100-летию со дня рождения писателя, вошли его автобиографические произведения «В начале жизни», «Бордо, или Отрочество», афоризмы, дневники, знаменитая «Черная тетрадь», литературно-критические статьи.
Рекомендуется широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
1 И. В. Гёте. Годы учения Вильгельма Мейстера. — Собр. соч. в 10-ти т., т. 7. М., «Худож. лит.», 1978, с. 197. (Пер. Я. Касаткиной.)
В те сумрачные зимы на дворе еще было темно, когда в половине шестого слуга Луи Ларп стучал ко мне в комнату. Тогда считалось естественным, чтобы лакей вставал в пять часов. При свете лампы Пижона * я, лязгая зубами, поднимался с постели: в наших спальнях никогда не топили — не из экономии и даже не из стремления к аскетизму, а из соображений такого рода: «К тому времени, когда воздух прогреется, дети уже успеют умыться и одеться...» Тогда никому из нас и в голову не приходило, что во всех комнатах температура может быть одинаковой. Кроме столовой, где сутки напролет тлели угли в жаровне, огонь поддерживался только в комнате моей матери и в семейной гостиной. По вечерам мы теснились вокруг очага, движениями и позами напоминая первобытных людей; возможно, отблеск того пламени до сих пор таится в глубине наших глаз, но вы тщетно пытались бы обнаружить его во взгляде нынешних детей, которым только и остается, что жаться к радиаторам. Устав от чтения, я садился на корточки у огня и без устали воображал себе охваченные пожаром города, пылающие врата ада, преисполненные надежды муки чистилища, откуда я, орудуя каминными щипцами, выпускал спасенные души, разлетавшиеся фонтаном искр. Моя мать так любила огонь, что на ногах у нее оставались следы ожогов; она называла себя пожирательницей огня.
Но в той предрассветной мгле, когда меня приходил будить слуга Луи Ларп, благословенный час обретения огня казался мне таким далеким! Передо мной простирался нескончаемый день, преисполненный кознями и ловушками, и мои мучения начинались с того, что я всовывал свои распухшие, местами обмороженные ступни в сырые от дождя башмаки. Туалет не занимал много времени: чтобы умыться, надо было быть героем. Наспех проглотив какао, мы стояли на посту перед дверью и высматривали «маршрутку»: так называли принадлежавший коллежу омнибус, который собирал по всему городу мальчиков, таких же заспанных и плохо умытых, как мы сами.
В то время мы занимали два этажа в старом величественном особняке на углу улиц Марго и де Шеврю, рядом с «иезуитником» (который Комб * очищал тогда от его набожных обитателей и часовня которого, называвшаяся часовней Марго, всегда была переполнена). Под негромкий звон колокола пустая улица внезапно заполнялась тенями, спешившими к заутрени. Эти старушки, такие же трогательные, хотя и не столь трагичные, как у Бодлера *, едва успевали, должно быть, заколоть свои жидкие волосы и влезть в юбки. Обутые в войлок, они с елейными лицами брели, прижимаясь к стенам. Мы пересчитывали этих святых женщин, называя по кличкам, которыми сами их наградили, и забавлялись так до тех пор, пока грохот колес не возвещал издалека о приближении «маршрутки». В те дни, когда мы опаздывали, она немного замедляла ход, и кучер щелкал кнутом. Но чтобы она не застала нас на нашем наблюдательном посту — такое случалось редко. Мне нравился запах кожи от этой старой колымаги, следовавшей запутанным маршрутом. У меня было добрых полчаса на то, чтобы подремать, закутавшись в пелерину и натянув на голову капюшон, что делало меня похожим на маленького капуцина. Мой взгляд был прикован к крупам першеронов, на которые падал свет от фонаря. Мутный рассвет занимался над пригородом. Жалкие школьные заботы не выходили у меня из головы. Никогда потом я не чувствовал себя таким слабым, обделенным, потерянным. Впоследствии, чтобы вновь почувствовать вкус этих ранних часов моих давно минувших дней, мне достаточно было повторить про себя строки Рембо:
Я вдоволь пролил слез. Все луны так свирепы,
Все зори горестны... 1
1 А. Рембо. Пьяный корабль. Цит. по: Б. Лифшиц. Французская лирика XIX и XX веков. ГИХЛ, 1937, с. 97.
Горестные зори, сумрачный город, стремление бежать. Вот когда для заледеневшего детского сердца поиски бога становятся привычкой. В дождь стекла экипажа, особенно заднее, к которому я прислонялся лбом, напоминали мне залитые слезами лица. На фоне неба чернели силуэты деревьев Гран-Лебрена. Огромное со светящимися окнами здание походило на пакетбот.
Мы попадали в класс, обогревавшийся первыми радиаторами парового отопления; мы погружались в запах пансионеров и кислый, неизъяснимый, но не вызывавший во мне отвращения запах надзирателя. Полчаса на чтение религиозных текстов, затем короткая перемена и, наконец, два часа занятий; еще четверть часа на игры и снова уроки — до полудня. В половине второго работа возобновлялась и продолжалась до половины седьмого с одним получасовым перерывом на полдник. Половина седьмого! Мгновение, которое даже сейчас, спустя четверть века, сохранило для меня сладостный привкус освобождения. Правда, во время долгих вечерних занятий я больше не чувствовал себя несчастным. Миг возвращения домой был близок, мне ничто больше не угрожало. В те долгие часы, которые можно было посвятить приготовлению домашних заданий, я вел дневник или сочинял стихи. Потребность писать овладела мною очень рано: в этом я находил избавление. Чего бы я ни отдал, чтобы вернуть тайные тетради отроческой поры, которые имел глупость сжечь! Сквозь оконные стекла мой взгляд устремлялся к небу. Иногда, отпросившись в уборную, я получал возможность выйти из класса. Не торопясь, шел я по пустынному двору, вдыхая тьму, пахнущую гнилыми листьями, туманом, хотя к этому своеобразному запаху пригорода примешивалось какое-то городское зловоние. В тот период жизни «безмолвье вечное просторов бесконечных» * если уж не пугало меня, то по крайней мере являлось для меня реальностью, и я воспринимал его без труда. Мглистое небо — и то было для меня средством бегства от действительности; я использовал любую лазейку, через которую мой взгляд и мысль могли вырваться на простор. Вероятно, я, сам того не сознавая, пребывал тогда в состоянии поэтического транса, стремясь преобразить все, что составляло мою жалкую жизнь. То была пора, когда меня начали окружать поэты, служа мне, как служили в пустыне ангелы сыну человеческому. Между реальностью и собой я воздвиг барьер из всей лирики прошлого столетия. Ламартин, Мюссе и Виньи вошли в мою жизнь первыми, но я научился находить изумительные по красоте строки и у современников, вплоть до Сюлли-Прюдома * и Самена *! Верлен, Рембо, Бодлер и Жамм * появились лишь по окончании коллежа.
Полная неспособность критиковать себя, трезво судить о себе самом — вот что примечательно в детях такого склада. Я вспоминаю странные сцены перед зеркальным шкафом, когда я щипал себя за щеки, повторяя: «Я! Я! Я!» Бросаясь из одной крайности в другую, я считал себя то недоноском, самым смешным и жалким существом в мире, заведомо обреченным на поражение, то убеждал себя в собственном интеллектуальном превосходстве; и я приходил в негодование при мысли, что мои учителя, кажется, не видят во мне избранника божьего.
VI
Мои учителя.
Мои учителя... Их было много, и все очень разные: прежде всего, учителя приходящие, миряне, к помощи которых прибегали марианиты; согласно принятой мною классификации, они располагались в самом низу иерархической лестницы. Помню одного из них, молодого человека; он только что женился и поэтому всегда приходил с опозданием. Запыхавшийся, он немедля разделывался с восхитительной молитвой: Veni, sancte Spiritus 1, прочитывать которую перед началом занятия его обязывал церковный устав. С помощью подстрочного перевода он разъяснял нам греческие тексты. Мой сосед по парте Л... чертил в своих тетрадках схему спальни молодого преподавателя; я и сейчас вижу прямоугольник, под которым стояла надпись: «Брачное ложе».
1 Низойди, дух святой (лат.).
Над мирянами стояли монахи — члены братства, одетые в сюртуки и диковинные шелковые шляпы и носившие в коллеже подбитые войлоком туфли, которые сохраняли тепло, а также позволяли ходить неслышным шагом и застигать нас врасплох. Некоторые были великолепными преподавателями; один из них после роспуска конгрегации без особых усилий получил ученую степень и перешел в Университет. Однако на большую часть была возложена обязанность следить за нами на переменах и во время приготовления домашних заданий — занятие, способное скорее ожесточить сердце, нежели отточить ум. В этой роли в государственных лицеях выступают бедные студенты, с остервенением работающие над диссертацией для получения степени лиценциата; что же до наших надзирателей, то во время долгих вечерних занятий они, помимо чтения молитв, занимались лишь тем, что шпионили за нами и разоблачали наши проделки. Благодаря экранам, которые они ставили перед лампами, весь свет падал на нас. Они играли отблесками стекол своих пенсне и достигли в этом такого совершенства, что было просто невозможно уследить за направлением их взглядов; и в то время, как мы думали, что г-н В. поглощен чтением «Шапюзо из нашего класса» (своей любимой книги), внезапно раздавался его грозный голос: «Мориак, принесите мне записку, которую вам бросил Лаказ!» * От привычки нюхать табак носы у некоторых из них превратились в нечто разбухшее, сизое, дряблое. Их правосудие вселяло в нас страх, потому что не поддавалось объяснению: мелкие грешки лишали нас выхода в город, а проступки гораздо более серьезные не приводили к ожидаемым катастрофам.
![Том 1 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)