Европа. Два некролога
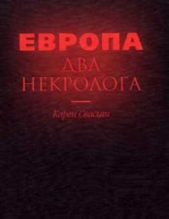
Европа. Два некролога читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Возникала диковинная неразбериха, где, с одной стороны, Логосу мира надлежало воскресать в вере, с другой же стороны — быть распинаемым в неизменно языческой логике, в которой ему, как исключенному Третьему, не находилось места! Всё это отнюдь не без содействия параллельно прокладывающего себе путь Корана, следующее предостережение которого христиане могли бы вполне отнести на свой счет: «Небо и земля и то, что посередине: неужели вам кажется, что всё это создано шутки ради?»
И всё же не христианским философам, а, скорее, христианским чиновникам обязана philosophia christiana своей последней — переписанной набело — редакцией. Если формула христианизированного платонизма или платонизированного христианства и страдала чем–нибудь, то никак не двусмысленностью. Бог как чистый дух бесплотен. Напротив, человек во плоти бездуховен. В качестве посредницы между бесплотным Богом и бездуховным человеком выступает душа:anma naturaliter christiana. Сколь бы примитивным ни был этот «платонизм для народа» [37] в теории, на практике втемяшивание его столетиями привело в конце концов к тому, что уже не только простым, но и непростым (философским) смертным казалось, что они состоят из тела и чего–то вроде (ощущающей или рассуждающей) души при последнем, в то время как дух представляет собой неотчуждаемую собственность третьей ипостаси Троицы [38].
«Духовная история» Европы, которую следовало бы переименовать в «телесно–душевную историю», свершается с той поры как перманентный психофизический конфликт, в котором тело и душа — в тяжбе о приоритете — грозят друг другу уничтожением. Апорией новоевропейской философии (задолго до постыло догматического спора о бытии и сознании) вдруг оказался вопрос: что первее, чувство стыда или краска стыда? Грустное настроение или слезы, выделяемые слезной железой? То есть: краснеем ли мы, оттого что стыдимся, или мы стыдимся, оттого что краснеем? Соответственно: плачем ли мы, оттого что нам грустно, или нам грустно, оттого что мы плачем? — В нетрадиционном (квантовом) решении Джеймса—Ланге душе — наконец! — выпала подобающая ей роль второго голоса при солирующем теле: мы плачем не потому, что нам грустно, а нам грустно, потому что мы плачем. (С оглядкой на Дейла Карнеги: не плачьте, и Вам никогда не будет грустно!) — Понадобилось, таким образом, более тысячелетия, прежде чем с юмористической духовной истории Запада была сорвана маска идеализма и началась её адекватная материалистическая интерпретация. Осведомленные культурдиагностики современности попадают не в бровь, а в глаз, когда они вместе с Фуко считывают с истории европейской культуры политическую историю тела. В реалиях этой истории отношение души к телу было не менее абсурдным, чем заповедь «Не прелюбодействуй» к порядку дня какого–нибудь Казановы.
Метафизически дряхлый Запад всегда ухитрялся заботиться о спасении души там, где дело шло о телесном, слишком телесном. Душа обременяла тело, подобно тому как аристотелевская энтелехия тормозила догалилеевскую физику. В Галилее, который избавил природные вещи от их мнимых энтелехий и препоручил их законам природы, барочная физика избавляется наконец от душевного призрака античности. Тем сильнее, однако, отыгрывается он в барочной психологии, задающей тон и in politicis. В этой асимметрии физики и психологии отражается с тех пор симптоматика времени: если новая физика представала своего рода Реформацией, в которой было покончено с аристотелевско–томистской идеологией, то современная ей психология разыгрывала по отношению к ней своего рода Тридентский собор, или Контрреформацию. Подобно тому как решением послетридент- ской цензуры падающие тела на потолке Сикстинской капеллы должны были быть одеты, душевно прикрытой надлежало появляться и всякой данности тела. Хотя с точки зрения физики душа мыслилась как надстройка, базисом которой было тело, тем не менее именно надстройка доктринарно решала над телом: марксизм, к тому же в своей крутой большевистской версии, подчиняющей живой базис мертворожденной идеологической надстройке, оказывается вписанным в культурную парадигму Нового времени.
В анализах Фуко, в его монументальной попытке вывести генеалогию современной морали из политической истории тела, ситуация запечатлена в следующей едкой формуле, в которой не без шарма выворачивается наизнанку идеологически залгавшийся платонизм: «I’ame, prison du corps» (Душа — тюрьма тела) [39]. Остается лишь сожалеть, что многообещающие симптомы сводятся здесь к самодовлеющим структурам и не выходят за рамки культурно–археологических интересов. Досадно, что археолог знания, на каждом шагу натыкающийся на более глубинные конфигурации происшедшего, ограничивается пониманием их как просто объективных структур, характерных для того или иного порядка дискурса. Топосы Фуко ограничены поэтому семантикой «классической» эпохи. Тем не менее заслугой его в подчеркнутом афронте против всякого рода идеалистических вычурностей остается разоблачение истории (отсутствующего, ибо упраздненного) «духа» как истории политических стратегий тела. Что при этом ускользает от его внимания, так это двойное дно самого разоблачения, именно: некая самоинсценировка и самоинтер- претация ДУХА, макиавеллически компрометирующего себя в «душе», чтобы дать возможность физиологам напасть на его подлинный след в «теле». История тела, обнаруживаемого за номиналистически заболтанной душой, есть (свободно, по Гегелю) хитрость духа, который позволяет временно упразднить себя (= свое люциферическое прошлое), чтобы испытать себя на прочность через свое ариманическое настоящее.
Лишь шаг за шагом и с постоянной оглядкой на alma mater приближалась робкая континентальная метафизика к освобождению научной психологии от призрака играющей с телом в прятки души. После того как галилеевская физика очистила вещи неорганической природы от их присочиненных частнособственнических энтелехий и вернула их исконному владельцу, мировой энтелехии; после того как органика Гёте добилась того же для мира растений и животных, настало время свершить этот переворот и в психологии. Психология (по модели Галилея — Гёте) должна была преобразиться в психософию, основной закон которой гласил бы: человеческая душа не может быть частной (ни в бюргерском, ни в лирическом смысле) собственностью, но единственно и во все времена — ДУШОЙ МИРА. Это значило: надлежит отвыкать от дурного языческо–христианского шаблона «моя душа», который произносится с таким же простодушием и бессовестностью, с каким говорится, скажем, о «моем банковском счете» или«моей тетушке». XX веку, затактом которого стал домыслившийся до теософии Гёте, не пристало отрекаться от материализма в пользу идеализма или жертвовать идеализмом под нажимом фактов материализма; обе крайности сшибаются здесь друг с другом, покуда из них не высекается искра сообразного миру мировоззрения.
Это значит, к примеру: «душа» высвобождается из–под психологической опеки и передается на физическое попечение, при условии, разумеется, что и сама физика занята не «государственными заказами», а достаточно созрела, чтобы опознать за лесом своих математических символов науку о Я. Душеведение без оглядки на физику, т. е. в том виде, как оно и по сей день всё еще блюдется в академической психологии, представляет собой образцовый вздор, обязанный своим существованием христианской традиции. В скором времени станет ясным, что на крыше делающего теологическую карьеру Люцифера еще задолго до экуменического заговора 869 года сидел ворон банкротства, и что крах in theologicis ни в коем случае не мог быть лишь внутренним теологическим делом. Не то чтобы в Константинополе в 869 году был изобретен христианский порох; просто там пришли к диковинному выводу, что для христианской усидчивости нет более соответствующего места, нежели арабская пороховая бочка. Было бы неверно рассматривать упразднение индивидуального духа христианскими чиновниками как сугубо христианскую необходимость. Что человек — вопреки Фотию — есть существо не душевное и духовное, но только душевное (unam animam rationabilem et intellectualem), наделенное признаками и духовности, вытекало из рецепции фатального топоса de anima 111,5 Аристотеля сквозь сирийско–персидско–арабско–иудейский окуляр. В Константинополе призма эта была лишь объявлена христиански обязательной. Если принять во внимание, что упразднение индивидуального духа во имя духа универсального было общим местом арабской философии вплоть до Аверроэса [40], то можно сказать, что в Константинополе христианская Европа лишь выполняла заказ Гондишапура. Какой- нибудь историк–симптоматолог должен же будет когда–нибудь с ранкевской основательностью описать перипетии монументального антихристианского соглашения от 666 года, христиански ратифицированного в 869 году. Последствия выстраиваются уже как логический первофеномен. Если человек лишен духа, он не может познавать.


























