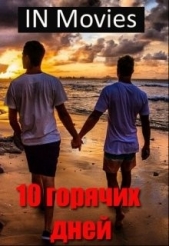Десять дней в сумасшедшем доме (ЛП)

Десять дней в сумасшедшем доме (ЛП) читать книгу онлайн
Перевод знаменитой статьи Нелли Блай (Элизабет Джейн Кошрейн, 1864 — 1922) о ее опыте заключения в сумасшедшем доме, опубликованной в формате книги в 1887 году.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— На Кубе.
— О! — выдохнул он с внезапным пониманием и обратился к медсестре:
— Ты встречала что-нибудь о ней в газетах?
— Да, — ответила она. — Я видела подробное описание этой особы в воскресном выпуске «Сан».
Доктор сказал:
— Проследи за ней, пока я схожу в кабинет и просмотрю ту заметку еще раз.
Он покинул нас, а мне велели снять шляпу и шаль. Вернувшись, он сообщил, что не смог найти нужный выпуск газеты, но он припоминает, что читал историю моего дебюта.
— Какого цвета ее глаза?
Мисс Грюп посмотрела и ответила, что они серые, хотя все говорили мне, что они карие или ореховые.
— Сколько тебе лет? — спросил он. Я сказала, что мне исполнилось девятнадцать в мае, а он повернулся к медсестре: — Когда ты в следующий раз уволишься?
Это, как я поняла, означало выходной.
— В следующую субботу, — ответила она с улыбкой.
— Ты поедешь в город? — и они оба засмеялись, когда она ответила утвердительно. Затем доктор велел:
— Измерь ее.
Мне приказали встать возле измерительного прибора, и планка была опущена, пока не прижалась к моей голове.
— Сколько там? — спросил доктор.
— Вы знаете, что я не могу понять, — сказала она.
— Ты можешь. Давай, какой у нее рост?
— Я не знаю. Тут какие-то знаки, я не могу сказать.
— Нет, можешь. Посмотри и скажи мне.
— Не могу. Посмотрите сами, — и они оба вновь рассмеялись. Доктор оставил свое место за столом и подошел, чтобы проверить лично.
— Пять футов и пять дюймов, разве не понятно? — сказал он, беря ее за руку и указывая на отметки.
По ее голосу я чувствовала, что она все равно не понимает, но это было не мое дело, так как доктору явно нравилось помогать ей. Потом я встала на весы, и она занялась ими, пока не привела их в состояние равновесия.
— Сколько? — спросил доктор, вернувшись за стол.
— Я не знаю. Придется вам посмотреть самому, — ответила она, назвав его по имени, которое я не запомнила. Он повернулся к ней и, тоже назвав ее имя, сказал:
— Ты становишься слишком наглой! — они оба засмеялись.
Я сказала медсестре, что весы показывают 112 фунтов, и она передала это доктору.
— Когда у тебя перерыв на ужин? — спросил он, и она ответила. Он уделял медсестре гораздо больше внимания, чем мне, и задавал ей по шесть вопросов на каждый вопрос для меня. Потом он записал мой приговор в свою тетрадь. Я заявила:
— Я не больна и не хочу здесь оставаться. Никто не имеет права запирать меня в таких условиях.
Он не обратил внимания на мои слова и, закончив делать записи и даже на какое-то время прекратив болтать с медсестрой, сказал, что этого довольно, и я была возвращена в комнату для ожидания к своим знакомым.
— Вы играете на пианино? — спросили они меня.
— Да, с детства, — ответила я.
Они настояли на том, чтобы я сыграла, и я пересела на деревянный стул перед старомодным инструментом. Я взяла несколько нот, и расстроенный звук заставил меня содрогнуться.
— Как ужасно, — заметила я, повернувшись к медсестре, мисс МакКартен, которая стояла возле меня. — Я никогда не касалась настолько расстроенного пианино.
— Какая жалость! — воскликнула она язвительно. — Нам придется заказать новое, сделанное специально для вас.
Я начала играть вариации «Дом, милый дом». Разговоры стихли, и все пациентки сидели безмолвно, пока мои холодные пальцы медленно и непослушно скользили по клавишам. Я завершила играть без всякого вдохновения и отказалась исполнить что-нибудь еще. Не видя другого свободного сидения, я осталась на стуле возле инструмента и занялась оглядыванием обстановки.
Это была длинная, почти пустая комната с голыми желтыми скамьями возле стен. Эти скамьи, идеально плоские и лишенные всякого удобства, могли вместить по пять человек, хотя почти на каждой сидело по шесть. Зарешеченные окна, находящиеся на высоте пяти футов над полом, располагались напротив двустворчатых дверей, ведущих в коридор. Голые белые стены были украшены лишь тремя литографиями, одна из которых изображала Фрица Эммета, а другие — чернокожих певцов. В центре комнаты располагался большой стол, накрытый белой скатертью, и возле него сидели медсестры. Все было чистым, без единого пятнышка, и я подумала, что здешние медсестры должны трудиться прилежно, чтобы сохранять такой порядок. Через несколько дней мне предстоит посмеяться над тем, как глупа я была, думая, что это — работа медсестер. Когда все поняли, что я не собираюсь больше играть, мисс МакКартен подошла ко мне, сказала грубо:
— Убирайся отсюда, — и закрыла пианино со стуком.
— Браун, подойди, — был следующий приказ для меня от суровой краснолицей женщины за столом. — Что на тебе надето?
— Моя одежда, — ответила я.
Она подняла подол моего платья и юбки, а потом записала пару туфель, пару чулок, верхнее платье, соломенную шляпу и так далее.
Глава 10
Мой первый ужин
После этого осмотра мы услышали чей-то крик:
— Выходите в коридор!
Одна из пациенток великодушно пояснила, что это было приглашение на ужин. Мы, вновь прибывшие, старались держаться вместе, так мы вышли в коридор, чтобы остановиться возле двери, где собрались все женщины. Как мы дрожали, пока стояли там! Окна были распахнуты, и в коридоре свистел сквозняк. Пациентки посинели от холода; наше ожидание длилось не меньше четверти часа. Наконец, одна из медсестер открыла дверь, которая вела к подножию лестницы. Здесь нас снова ждала долгая остановка возле открытого окна.
— Как это неблагоразумно со стороны служащих — держать этих скудно одетых женщин в таком холоде, — сказала мисс Невилл.
Я посмотрела на несчастных дрожащих больных и кивнула сочувственно:
— Это очень жестоко.
Пока мы стояли там, я думала, что не смогу наслаждаться едой этим вечером. Они выглядели такими потерянными и отчаявшимися. Некоторые бормотали что-то бессмысленное, обращаясь к невидимым собеседникам, другие смеялись или плакали без причины, а одна престарелая, седоволосая дама коснулась меня локтем и, подмигивая, глубокомысленно кивая и жалостливо поднимая взгляд к потолку, заверила меня, что я не должна беспокоить бедняжек, так как все они безумны.
— Встаньте возле печи, — был приказ, — И выстройтесь в колонну по парам.
— Мэри, найди себе пару.
— Сколько раз мне говорить вам стоять в колонне?
— Стойте смирно.
Когда порядок нарушался, медсестры прибегали к толчкам, пинкам и зачастую шлепкам по уху. После этой третьей и последней остановки мы прошли в продолговатую узкую столовую, где пациентки устремились к столу.
Стол был почти таким же длинным, как комната, и лишенным любого покрытия. Длинные скамьи без спинок предназначались для того, чтобы пациентки сидели на них, и через них надо было переползти, чтобы устроиться лицом к столу. На протяжении всего стола близко друг к другу стояли большие чашки с той розоватой жидкостью, которую пациенты звали чаем. Возле каждой чашки лежал толстый кусок хлеба с маслом. Маленькое блюдце с пятью сушеными сливами прилагалось к хлебу. Одна полная женщина поторопилась и схватила несколько соседних блюдец, чтобы свалить их содержимое в ее собственную тарелку. Затем, держа в одной руке свою чашку, она взяла чужую и осушила ее одним глотком. То же самое она сделала со второй чашкой за меньшее время, чем потребуется, чтобы сказать это. Я была так удивлена ее успешно произведенным захватом, что, когда я наконец посмотрела на свою порцию, женщина напротив меня, не спрашивая моего позволения, схватила мой хлеб и оставила меня без него.
Другая пациентка, увидев это, добродушно предложила мне свой, но я отказалась с благодарностью, повернулась к медсестре и попросила еще. Бросив толстый кусок хлеба на стол, она отпустила какое-то замечание насчет того, что, даже забыв, где я живу, я не забыла, как есть. Я попробовала хлеб, но масло было настолько ужасно, что есть его было невозможно. Голубоглазая немецкая девушка с другой стороны стола сказала мне, что я могла бы попросить хлеб без масла, и что почти никто не может есть это масло. Я обратила внимание на сливы и выяснила, что среди них лишь пара съедобных. Пациентка, сидящая возле меня, попросила отдать ей сливы, и я согласилась. Мне осталась лишь чашка чая. Я попробовала его, и одного глотка было достаточно. Там совсем не было сахара, и вкус был таким, словно его сварили в медном горшке. Чай был жидок и слаб, как вода. Я передала и эту чашку более голодной пациентке, несмотря на возражения мисс Невилл.