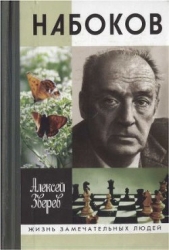Серебристый свет (Подлинная жизнь Владимира Набокова)

Серебристый свет (Подлинная жизнь Владимира Набокова) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
3. На с. 369 о Марте сказано: "похожая на большую белую жабу". Это вторая в прозе Сирина жаба. Первая появляется во 2-й главе "Машеньки" в виде чернильницы на письменном столе покойного герра Дорна: "дубовая громада с железной чернильницей в виде жабы". Обе они открывают череду невинных предшественников Жабы - тирана Падука из романа "Под знаком незаконнорожденных" (см. в оном).
4. См. в особенности с.236 и жалкую ночную поллюцию Франца на с.160.
5. См., к примеру, статью Д. Бартона Джонсона " The Key to Nabokov's Gift" в канадско-американском журнале " Slavic Studies " (Ванкувер, Британская Колумбия), 16, 1982, с. 190-206. (Я незнаком с профессором Джонсоном, но мне говорили, что он до жути похож на Чехова .)
6. Не могу удержаться и не процитировать Шопенгауэра, цитирующего Аристотеля, цитируемого Сенекой: " Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit" (Кажется, это из " De tranquilitate animi".)
ГЛАВА 8
Смерть не смешна
Задним числом относительно богатая событиями жизнь Мастера читается как роман, сочиненный автором, охваченным таким творческим пылом, что он то и дело забывает перечитывать уже им написанное - впрочем, и вдохновение посещает его так часто, что переделки, как и выстраиваемые в определенной последовательности черновики, оказываются излишними: рассказ изливается единым, до чрезвычайности длинным и становящимся все длиннее многокрасочным потоком, в чем-то подобным бесконечной связке шелковых носовых платков, которую фокусник с хорошо подделанным изумлением вытягивает из атласного своего рукава, либо, уж коли на то пошло, изо рта уступчивой, хоть отчасти и сконфуженной дамы, выдернутой им из публики. Что же до смерти Набокова, то она и поныне воспринимается как неприятное потрясение, нелепый в своей неуместности элемент череды событий - как если бы в самом конце шелковой ленты обнаружился не особенно яркий платочек, но живой червяк, или подгнившая слива, или какой-то равно удивительный иверень происхождения решительно необъяснимого.
Спасибо, мадам, можете сесть.
То, что Набоков умер не своей смертью, лишь теперь начинает признаваться широкой публикой. Его так называемая "загадочная" смерть, объявлявшаяся следствием то падения в горах, то вирусной инфекции, то воспаления легких, то прозаической остановки сердца, была, как ныне стало известно, причинена или по меньшей мере ускорена особливым, почти неуследимым ядом, неудобосказуемое название коего я не стану здесь открывать из опасения, что какая-нибудь неуравновешенная личность, отрастившая зуб на члена своей семьи, прежнего возлюбленного, шумного соседа или начальника (нет, это определенно не Вы, драгоценнейший М.), может отыскать этот яд и использовать. Раздобыть этот яд нетрудно. Он не имеет ни вкуса, ни запаха, обнаружить же следы его можно лишь посредством вскрытия, произведенного вскоре после кончины жертвы знающим медицинским экспертом. Набоков, в последние два своих года несколько раз попадавший в больницу, считался человеком больным. Никто не заподозрил, что дело здесь нечисто, а потому и о вскрытии никто не похлопотал. Тело, о чем я узнал слишком поздно - иначе не предпринял бы бесплодной ночной вылазки, описанной мною в первой главе, - кремировали всего через несколько дней после того, как обладатель его освободил, так сказать, помещение. Увы, никаких годных для предъявления суду доказательств совершенного преступления не сохранилось.
И все-таки позорный путь, что тянется инфернальным пунктиром по картам Германии, Франции, Америки, возвращаясь к горному склону над Гстаадом к роскошному отелю в Монтрё и завершаясь в конце концов в мрачной лозаннской больнице, проследить можно - и он будет прослежен, о мой кроткий читатель, - от штриха к штриху, пока не явится он во всей своей полноте, подобный замысловатому и по видимости бессмысленному рисунку, нанесенному на лист бумаги старым, обмакнутым в лимонный сок гусиным пером и остающемуся незримым для невооруженного глаза, но явственно проступающим, если нагреть листок у свечи либо электрической лампы, - пророческий узор, похожий на загадочную картинку, где однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда .
***
Как ведомо каждому читателю, отец Набокова был убит вечером 28 марта 1922 года при попытке предотвратить предположительное покушение на русского государственного деятеля и историка Павла Николаевича Милюкова, выступавшего в берлинском филармоническом зале перед толпой, состоявшей из русских (и по меньшей мере двух земблянских) эмигрантов. Толкование происшедшего, принятое тогда же и считавшееся истинным по сей день, сводилось к тому, что объектом покушения, совершенного "монархистскими экстремистами", являлся Милюков, глава партии конституционных демократов так называемых "кадетов", представляющих собою русскую реплику наших куда более воспитанных и жизнерадостных карлистов, - и что Владимир Дмитриевич Набоков, также присутствовавший на сцене, был смертельно ранен, когда попытался удержать вооруженного пистолетом убийцу и повалить его на пол. Но довольно этого исторического глянца, намеренно наведенного на трагическое событие .
На самом деле убийца - русский, поселившийся под странным англо-американским именем Боб Уайт в дешевой гостиничке близ Курфюрстендамм, - отлично продумал каждый свой ход. Его тренировщики (два безликих аппаратчика из Семипалатинска) дело свое знали. (Я получил эти сведения от баснословно старого эмигранта, и поныне живущего, перебиваясь с хлеба на воду, в сельской вилле на юге Франции.) Они, тренировщики, сознавали, что Набоков-старший, славившийся и отвагой, и чувством чести, увидев нацеленное оружие, без колебаний бросится на защиту своего коллеги Милюкова, который - по одному уже тому, что именно он обращался к публике с речью, - и будет сочтен главной мишенью нападающих. Уайту, меткому стрелку, ничего не стоило "промахнуться" по предположительной жертве и попасть в Набокова, находящегося бок о бок с человеком, на которого якобы совершается покушение. Вскоре после этого Набоков-старший скончался. Ужасная трагедия преждевременной смерти этого 53-летнего человека в последующие полстолетия блуждала, подобно некоему призраку, по произведениям его сына. Но довольно ли одного этого убийства, чтобы объяснить навязчивое влечение Набокова к образам смерти, к убийствам, к тому, что юристы кличут "ошибочным опознанием"? Ответ, утверждаю я, гласит: нет. Разумеется, трагедия есть мощная движущая сила искусства, но, опираясь лишь на нее, мы никогда не поймем, почему Набоков с такой силой и настоятельностью - так и тянет сказать маниакальностью - раз за разом обращался к одним и тем же фундаментальным, фундаментально пугающим темам.