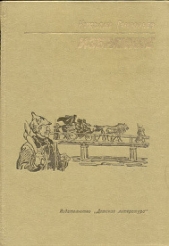Избранное
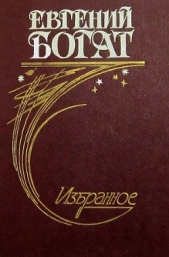
Избранное читать книгу онлайн
В книгу известного советского публициста Евгения Михайловича Богата (1923–1985) вошли произведения, написанные писателем в разное время и опубликованные в нескольких авторских сборниках. В «Избранном» отразились круг литературных интересов Евгения Богата, направленность его творчества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Байрон понимал: уберечь одного-единственного ребенка от ужасов войны важнее, чем написать великую поэму, и именно поэтому он писал поэмы, которые живут в веках. Хатадже, или Хато, как уменьшительно он ее называл, была последним на земле человеком, кого коснулась та ни с чем не сравнимая нежность, которая делает бессмертными его стихи.
Это сочетание в одном человеческом сердце жажды титанического — как при сотворении мира — действия и нежности, для которой нет точного определения и в лексиконе гениального поэта, — в самом деле загадка, достойная философов.
Ответ на нее равносилен, быть может, разгадке самой жизни.
Последними словами Байрона были:
«Я оставляю в мире нечто бесценное».
Он сказал это по-итальянски.
Гамлет
Много писалось о его уме, силе характера и даже «хитрости», но мало — о беспомощности. А ведь он открыто-беззащитен, как ребенок. И чувство жалости вызывает почти болезненное, какое может вызвать именно ребенок.
Чего стоит хотя бы инсценировка безумия? Он видит, что мир сошел с ума, переживает то же, что переживал бы черный заяц на белом снегу, чувствуя позади настигающих его охотников и, чтобы раствориться в местности, сходит с ума. Но — и в этом, может быть, главная трагедия Гамлета — сойдя с ума, он становится еще более удобной мишенью, потому что его безумие отличается от безумия двора Клавдия, как небо от земли. Он обнажает «внутреннее», делает собственную непохожесть явственной до парадоксальности и становится особенно уязвимым для окружающих, чье безумие — антипод его сумасшествию, так как состоит в отсутствии «внутреннего», души.
Король, королева, Полоний и разные розенкранцы лишены того, что можно назвать духовной реальностью. Они — большие и малые кирпичики сотрясаемого «сумасшествием» Гамлета Датского королевства, — в сущности, стандартные, находящиеся во власти общих ходульных мниморазумных схем, которые особенно отчетливо формулирует рассудительный Полоний.
Отчаянный бунт Гамлета вызывает обвал, под которым с физической достоверностью он — жертва обвала — и погибает.
Горько-наивная попытка Гамлета изобразить безумие показывает глубину его человеческой нормальности. Это — личность с богато и разнообразно развитым внутренним миром. Мир же, окружающий его и будто бы ничем не отличающийся от нормы, безумен: его душевная болезнь состоит в отсутствии души.
Задолго до появления экзистенциализма как философии Шекспир изобразил обреченность этого мироощущения и миропонимания, даже когда оно воплощено в характере высоком и чистом.
В сущности, логику «странного» гамлетовского поведения в трагедии Шекспира можно истолковать как поиски «подлинного поведения» в чисто экзистенциалистском понимании этой формулы, то есть поведения, в котором бы внутренние убеждения органично совпадали с внешними действиями.
Он не убивает короля, пока не удостоверяется, что нравственно не может не убить, но понимает это, уже раненный отравленным клинком Лаэрта.
Трагедия Гамлета — трагедия человека высокой и чистой души, в высшей степени нормальной человеческой души в больном, ненормальном обществе, которое на благородство отвечает коварством и интригой. Но Гамлет не был бы Гамлетом, если бы пожертвовал хотя бы одной из внутренних ценностей во имя тактических соображений.
С развитием техники отравленные шпаги уступают место винтовкам с оптическими стеклами и бомбам, которые делаются год от году все эффективнее. Что же: отбросить благородство, как уже ненужный, устаревший театральный реквизит, и, фигурально выражаясь, убивать короля не в пятом, а в первом акте, еще до того, как созрело окончательное убеждение в его непререкаемой виновности? Уничтожать больное общество тотально, не заботясь о том, что с розенкранцами может погибнуть и Горацио? (Не этот ли маоистский вариант исповедуют сегодня в мире «левые авантюристы»?)
О нет! Мудрость в том, чтобы вопрос «быть или не быть?» из личного, экзистенциального стал общечеловеческим, общенравственным. «Быть или не быть?» не одному человеку, не одной человеческой душе и даже не одной части мира, а быть или не быть миру, человечеству, его духовной сути. И тогда становится ясным: истина не может быть только личной. Она должна быть общественно-емкой. Иначе остается одно: изображать безумие, чтобы отодвинуть удар в сердце зла, удар, который уже не спасет тебя, потому что и в твоем теле отравленный клинок оставил яд. Детская беззащитность одной души или могущество миллионов душ, для которых совокупность борьбы за социальные и нравственные истины не означает утраты «внутреннего»?
Да, возможны парадоксальные исторические ситуации — я об этом рассказывал несколькими страницами раньше, — когда единственно личная нравственная ценность помогает достойно ответить на абсурд исторической ситуации. Но ситуации рождаются и умирают, а история человеческого общества поступательна и вечно жива. Надо уметь выверять часы сердца по часам мировым.
Написал я это все, конечно, не для того, чтобы осудить прекрасного принца, чье Датское королевство, потрясаемое заговорами и локальными жестокостями, может показаться даже уютным, коль посмотришь на него из нашего глобального атомного века.
Но хотя и «уютным» кажется двор Клавдия, похожий на маленькую домашнюю тюрьму, нет ни малейших оснований для пессимизма, потому что в сегодняшнем реальном мире глобальным формам зла соответствуют и глобальные формы добра.
Старик
Когда в Эрмитаже из зала «малых голландцев», с очаровательной достоверностью живописавших мимолетности жизни — пирушки, веселые концерты, утехи любви, — выходишь в торжественно сумрачный, самосветящийся зал Рембрандта, кажется, что вернулся домой: поначалу испытываешь то же, что разбитый дорогами, несчастный библейский малый на темном исполинском полотне, который упал на колени, чтобы полновеснее ощутить тяжесть милосердных отеческих рук [8].
В силу этого первого ощущения, может быть, и замечаешь в этом зале руки раньше, чем лица.
Беспомощные, пухлые, детские руки Саскии, женственно-раскрытую ладонью к любимому, чуткую, как оленье ухо, руку Данаи и, разумеется, эти вытоптанные жизнью, сомкнутые на коленях, чтобы было теплее, эти мирные, ремесленно-натруженные руки старика в красном. Они отдыхают уже триста лет, но, отдыхая, они размышляют и, должно быть, именно поэтому все еще наморщены и тяжки.
Но вот, оторвавшись от рук, обращаешься к лицу, будто бы не видящему тебя, и с болью изумления осознаешь, что стоит тебе лишь захотеть — и оно увидит.
Ты будешь говорить с этим старым и мудрым человеком о том великом и малом, из чего соткана твоя жизнь. Он поймет. Трагедию Хиросимы. Радость утренней удачной строки. Раздумья после фильмов Бергмана или Антониони…
(Торжественно летящие над лентой шоссе космически могущественные кроны в «Земляничной поляне» Бергмана напомнят, если на миг остановить бег кинокамеры, слитно покоящиеся в вечереющем воздухе красивые деревья на печальных картинах Ватто; хотя и несравненно менее динамично, они тоже выявляют трагическую непрочность человеческих отношений.)
Старик жил в Амстердаме середины XVII века — туманном городе узких улиц и темных каналов, с уютным запахом торфа, который томительно тлел в каминах, тихими домашними радостями, увековеченными «малыми голландцами», и часто потаенным для современников, как и в остальные века, героизмом ума и сердца. Может, с этим стариком беседовал Спиноза?
А почему бы и нет? Ведь он, одиноко гуляя вечерами, любил заговаривать с нищими, ремесленниками, бездомными стариками.
О чем же могли говорить он и старик в красном?
О! О чем угодно. О шлифовке стекол или вязке морских канатов. О том, что в туманные, ветреные вечера иногда горлом идет кровь. О радостном разнообразии ручного труда, когда при поверхностной похожести вещей каждый раз рождается что-то новое, и это освежает руки и голову.