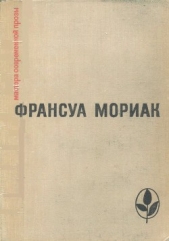He покоряться ночи... Художественная публицистика
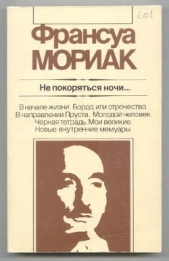
He покоряться ночи... Художественная публицистика читать книгу онлайн
В сборник публицистики Франсуа Мориака (1885—1970), подготовленный к 100-летию со дня рождения писателя, вошли его автобиографические произведения «В начале жизни», «Бордо, или Отрочество», афоризмы, дневники, знаменитая «Черная тетрадь», литературно-критические статьи.
Рекомендуется широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это невозможно проделать с романами того типа, который нас интересует, — с романами, в которых от таинственного союза художника с действительностью рождаются новые существа. Эти герои и героини, рожденные истинным писателем, не скопированы с моделей, встреченных им в жизни, и их создатель мог бы льстить себя надеждой, что извлек эти существа из небытия одним лишь своим творческим могуществом, если бы вокруг него — не в широкой публике, не в массе безвестных читателей, а в его семье, среди близких, в его родном городе или деревне — не было тем не менее лиц, готовых узнать себя в этих созданиях, которые, по мнению романиста, всецело, с головы до ног, сотворены им. В этом непосредственном окружении всегда найдутся недовольные или оскорбленные читатели. Не было еще случая, чтобы писатель не огорчил или не обидел, сам того не желая, прекрасных людей, которых знал в детстве или юности, среди которых вырос и о которых меньше всего помышлял, когда писал свой роман.
И если тем не менее, несмотря на все протесты писателя, они узнают в его книгах себя или своих близких, не доказывает ли это, что для создания своих персонажей он, сам того не ведая, черпал материал из того огромного запаса образов и воспоминаний, которые отложила в нем жизнь? Подобно сорокам-воровкам, про которых рассказывают, что они хватают блестящие предметы и прячут их в глубине своего гнезда, художник запасается в детстве лицами, силуэтами, словами; его поражает какой-нибудь образ, замечание, забавный случай... И даже если не поражает, все это остается в нем, а не исчезает, как у других людей; все это, неведомо для него, бродит, живет в нем скрытой жизнью и в нужный момент всплывает на поверхность.
В безвестной среде его детства, в семьях, ревниво оберегающих свой дом от посторонних, в глухом провинциальном захолустье, где никого не бывает и, кажется, ничего не происходит, жил ребенок, шпион и предатель, не сознававший своего предательства, который схватывал, регистрировал, запоминал помимо собственной воли повседневную жизнь во всей ее запутанной сложности. Ребенок, похожий на других детей и не вызывавший подозрений. Быть может, часто приходилось повторять ему: «Иди же поиграй с детьми! Вечно ты трешься у наших юбок... И всегда-то ему надо знать, о чем говорят взрослые».
Когда позднее он получит яростные письма тех, кто узнал себя в том или ином из его персонажей, он испытает возмущение, удивление, печаль... Ведь романист не кривит душой: он-то знает своих персонажей, знает, что они ни в чем не похожи на этих славных людей, которых он имел несчастье огорчить. И все-таки совесть у него не совсем чиста.
В моем случае первая причина этого недоразумения между писателем и читателем, узнающим себя в персонажах книг, совершенно очевидна. Я не могу задумать роман, не представив себе мысленно вплоть до самых укромных закоулков дом, который станет местом действия; мне нужно знать самые заброшенные дорожки сада и знать все окрестности, причем знать их досконально. Коллеги рассказывали мне, что выбирают местом действия своего будущего романа какой-нибудь маленький, дотоле неизвестный им городок и живут там в гостинице, пока не напишут книгу. Вот уж на что я совершенно не способен! Даже если я надолго поселюсь в чужом для меня краю, это мне ничего не даст. Никакая драма не сможет зародиться и ожить в моем сознании, если я не привяжу ее к местам, где постоянно жил. Мне нужно следовать за своими персонажами из комнаты в комнату. Часто я еще не различаю ясно их лиц, только общие очертания, но чувствую затхлый дух коридора, по которому они проходят, и мне известно все, что они ощущают и слышат в такой-то час дня или ночи, направляясь из передней на крыльцо.
Эта особенность неизбежно обрекает меня на некоторое однообразие атмосферы, которая почти не меняется из книги в книгу. Главное же, я вынужден использовать все те дома и сады, где жил или которые знал с детства. Но мне уже не хватает владений моей семьи или моих близких и приходится вторгаться на территорию соседей. Вот так мне случалось, без всякой задней мысли, рисовать в воображении самые жуткие драмы в тех почтенных провинциальных домах, где в четыре часа пополудни в темных, пропахших абрикосами столовых старые дамы предлагали мне, тогда еще мальчику, отборные гроздья муската, кремы, айвовый мармелад и большой стакан чуть приторного миндального сиропа, вовсе не мышьяк Терезы Дескейру.
Когда бывший мальчик становится романистом, случается, что спутники его детских лет, читая написанные им чудовищные истории, с ужасом узнают свой дом и сад. Писатель мог надеяться, что сама необузданность придуманной им драмы исключала возможность каких-либо аналогий и недоразумений. Ему казалось немыслимым, чтобы почтенные люди, у которых он позаимствовал дом, могли вообразить, будто он приписывает им страсти и преступления своих жалких героев.
Но это значило недооценивать то место, которое занимает в провинциальной жизни дом предков, никогда не покидаемый семьей. Жители городов, равнодушно переезжающие с квартиры на квартиру, забыли, что в провинции господский дом, конюшни, прачечная, задний двор и огороды в конце концов так же срастаются с семьей, как раковина с улиткой. Невозможно тронуть одно, не затронув другое. И это особенно верно потому, что неосторожный романист, посягнувший на фамильную святыню, думая, будто воспользовался только домом и садом, не учитывает ту особую атмосферу, которой они пропитаны, — атмосферу семьи, обитавшей там. Иногда от нее остается, подобно забытой в передней соломенной шляпе, какое-нибудь имя, и по бессознательной ассоциации романист нарекает им одного из своих преступных героев, чем окончательно укрепляет подозрения относительно своих черных намерений.
Итак, в старинные дома и усадьбы своего детства романист вселяет других людей, отличающихся от тех, которые там жили; они грубо нарушают тишину семейных гостиных, где его бабушка и мать вязали при свете лампы, думая о детях и боге. Но какое, собственно, отношение имеют эти персонажи-захватчики к живым людям, которых знал романист?
Что касается меня, то в моих книгах, думается, только персонажи второго плана прямо заимствованы из жизни. Можно считать за правило: чем меньше значение персонажа в повествовании, тем больше шансов, что он взят из действительности таким, как есть. Оно и понятно: речь идет, как говорят в театре, о «выходных ролях». Необходимые для действия, они стушевываются перед героем романа. У художника нет времени перекраивать и заново создавать их. Он использует их такими, какими находит в своих воспоминаниях. И ему не нужно далеко ходить, чтобы отыскать служанку или крестьянина, проходящих через его произведение. Он едва дал себе труд слегка затушевать черты, сохранившиеся в его памяти.
Но другие — все эти герои и героини первого плана, обычно такие жалкие, — в какой мере они тоже отражают живых людей? В какой мере являются ретушированными фотографиями? Трудно ответить на этот вопрос совершенно точно. Жизнь дает романисту лишь наброски персонажей, наметки драмы, которая могла произойти, заурядные конфликты, которые в других обстоятельствах могли бы получить интересное развитие. В общем, жизнь дает романисту исходную точку, отталкиваясь от которой он может пойти собственным путем, отличающимся от реального хода событий. Он превращает в действительное то, что существовало лишь потенциально; он реализует смутные возможности. Иногда он просто выбирает направление, прямо противоположное тому, в котором развивались жизненные события. Он меняет действующих лиц местами: в такой-то известной ему драме он ищет в палаче жертву и в жертве — палача. Исходя из данных жизни, он вступает в спор с жизнью.
Например, среди множества источников «Терезы Дескейру», несомненно, была картина суда, увиденного мной в восемнадцать лет, и образ отравительницы — изможденной женщины — между двумя жандармами. Я припомнил показания свидетелей, я использовал историю с поддельными рецептами, к которым прибегла обвиняемая, чтобы раздобыть яд. Но на этом кончаются мои прямые заимствования из жизни. Из материала, данного мне действительностью, я построил совершенно другой и более сложный персонаж. В действительности мотивы обвиняемой были самого простого порядка: она любила другого человека. Тут уж ничего общего с драмой моей Терезы, которая сама не знала, что толкнуло ее на преступление.
![Том 1 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)