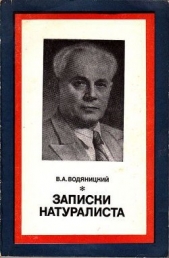Америка каждый день. Записки натуралиста (СИ)

Америка каждый день. Записки натуралиста (СИ) читать книгу онлайн
Журнальный вариант.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Американцы молодые — как раздутые, быстро и неестественно взрощенные тепличные огурцы. Безвкусные и маловитаминные, хотя и обтянутые в целлофан к продаже. Наши же мужички бывают — скрюченные, перекошенные, горькие, колючие — но натуральные огурчики.
Американцы как тип, как нация — хорошие, как личности — ни то ни се, сладковатые. Америка интересна как идея, как организация и неинтересна как люди. Русские, наоборот, как тип — противные, но лично — приятно-забавно-занимательные.
Вообще народы я делю на битые и не битые. Американцы — не битые. Этим, а не гамбургерами, трудолюбием и прочим они отличаются от нас. И от немцев тоже.
А взглянуть глазами самих американцев — весь мир как водопровод: взял да починил сам. Если царь, коммунизм не нравится — так скинь. А то (претензия к нам) загонят себя в свои переживания: царь — не царь, революция — не революция… Вот мои мультики, моя баскетбольная сетка, пикник с котлетой и кола-колой.
Американский антитоталитаризм происходит тоже из их стремления к нивелировке, похожести. Как! Какой-то правитель мнит себя более знающим, имеющим больше прав! Не позволим, не дело это. Ну-ка будь как все.
Ведь и фашизм, и большевизм были экспериментаторством — по духу, шаг в сторону от мещанства. Это и не простили.
Спорим с советологом. Американский аргумент: американец возьмет отвертку и сам починит, если туалет в советской гостинице сломан.
Мой аргумент: да, но это не от предприимчивости американцев и лености русских. У американцев представление, что мир изначально упорядочен и некоторые отклонения можно привести к порядку. У русского, наоборот, что мир общественный — чужой, беспорядочный, там что чини, что не чини — пропадет.
Лето, Бруклин, с километр от Брайтон-Бич по побережью. Пустой пляж, океан, мокрый песок, за ним пустыри, вдалеке коробки-дома. Купающихся после дождя ни одного. Через каждые пятьдесят метров на помостах — спасатели в люминесцентных красных куртках. Снаряжены, с биноклями. Далеко тянется их ленточка, нигде так просто не поплаваешь. Сидят, ждут, кто-то от скуки книжку читает. Спрашиваю:
— Докуда заплывать можно?
— Вон до той линии.
— До какой — не понимаю?
— Ну, мне отсюда видно. Если заплывут, я в свисток свистну.
Свобода. Laissez faire.
Они уже отгуляли свое, отбуйствовали. В прошлом веке — во времена Дикого Запада, в 30-х годах нынешнего — при гангстерах. Поняли, что так дело не пойдет, что надо сдерживаться. Надели на себя смирительную рубашку. И закостенели.
Казино в узде, разрешены в не многих штатах. В Неваде, где расположен Лас-Вегас, разрешили, чтобы как-то поднять штат из скалистой дикости за счет налогов с игорных доходов. Да и от людских глаз он подальше, спрятан со всех сторон горами. В соседней Калифорнии можно встретить вывески «Казино», но это лжеказино, там люди заняты всего лишь упорядоченной игрой в карты. Около Чикаго есть речные казино — на пароходике, который отходит часа на два, на сеанс, и снова пристает. Считается, что на реке, разделяющей штаты, злачное заведение как бы ничейное, никому за него не стыдно. Да и ставки строго ограничены — не более 25 долларов за фишку, чтобы не зарывались.
Остались пистолеты — можно легко и недорого (от 60 до 200 долларов) купить настоящий огнестрельный, надо только предъявить удостоверение личности. Но поди выстрели — по судам затаскают. Один стрельнул в грабителя — тот по уголовной линии получил срок, зато по гражданской выставил встречный иск — пулей повреждена моя коленка, потерял работоспособность, плати содержание по гроб жизни.
За словоупотреблением приходится следить. Хочется сказать по-простому: «негр», а не моги. Соблюдай «политическую корректность». Иначе сочтут за расиста, мракобеса, а то и в суд потянут. Сказать и «черный» нельзя, надо — «афроамериканец». Нельзя «индеец», надо — «коренной американец». Вот «белый» сказать почему-то можно, хотя надо бы «евроамериканец». Опять-таки дискриминация. Непонятно только, против кого. Они уже запутались в своих щепетильностях.
Голых по телевизору вырезают. Один раз только в мотеле во Флориде глубоко за полночь наткнулся на откровенный порноканал — откуда он взялся? Может, хозяева-индейцы просто для гостей крутили? А так нигде — ни-ни, и не надейся. Разве что кафе разрешены, где бабы на постаменте вокруг железного шеста вьются и себя по задам хлопают, а мужики смотрят. Строгости и с алкоголем, за наркотики наказывают даже за употребление…
А мы, русские, как раз сейчас и гуляем. Наше время пришло. Дикость, разгул, полное раскрытие всех гулятельных сил. Потом, наверное, тоже смиримся.
Окошечком почты заведует симпатичный подтянутый мужчина с усами. По виду лет под сорок. Стоя в небольшой очереди, я с удовольствием наблюдаю за почтарем. Работает он споро, с ответственным видом и с каким-то подъемом. Ясно, что происходящее ему нравится — он не задерживает посетителей, ловко время от времени набирает что-то на компьютере, точно дает сдачу.
У нас люди в почтовых окошечках другие — чаще всего женского пола, расплывшиеся, замедленные. Вид у них такой, как будто они хотят показать, что им все это на фиг не нужно, что они здесь временно, случайно, что они заслуживают большего.
Глядя на усатого, я невольно сравниваю своего почти ровесника с собой.
«Согласился бы я поменяться с ним жизнями? — спрашиваю себя. — Ведь будешь американцем!»
И отвечаю себе: «Нет».
Я залетный, пожить в Америке для меня — приключение. Приехал и уеду скоро. Будут потом еще какие-нибудь приключения. А он так и простоит здесь год, три, пять, всю жизнь.
Придя к такому выводу, я проникаюсь даже сочувствием к работнику. Хотя и у него, при взгляде на русский адрес на толстом многосодержащем конверте, мелькает, наверное, сочувствие ко мне.
В аэропорту Кеннеди разрезаю ножницами кредитную карточку VISA, половинки вкладываю в конверт. Без нее не дали бы напрокат машины, на которой добрались из Индианы в Нью-Йорк, поэтому и держал ее до последнего момента. На заранее приготовленном листке написано: «Карточка мне больше не нужна в связи с отъездом обратно в Россию. Полагаю, за мной долгов не числится. Спасибо».
Предыдущую ночь пришлось поволноваться, кружа по Бруклину в поисках мотеля подешевле. Нашелся такой — подешевле: с темным фойе, мрачной негритянской физиономией за толстенным бронированным окошком, еле держащимся крючком на двери, отвратительной желтой простыней, колючим солдатским одеялом. Всю ночь не спал, выглядывал в окно: боялся за машину.
Утром, при свете, у регистратуры на стене обнаружилась табличка: «1 чаc — 7 долларов, 2 чаcа — 10 долларов, ночь — 30 долларов». Прощальную американскую ночь нам с женой, четырехлетней дочкой и семнадцатью тысячами долларов в карманах довелось, оказывается, провести в негритянском почасовом борделе.
Напоследок в зале ожидания покупаю в ярком киоске газету «Уолл-стрит джорнел». Мне нравится сидеть с ней закинув ногу на ногу, разбираться по старой памяти в таблицах акций и на самом деле что-то понимать. Непривычно, что вокруг скапливается уже так много русских…
В иллюминаторе мелькают и скрываются очертания Нью-Йорка. Год назад, впервые завидя их с высоты в июльском золотистом мареве, я чувствовал себя Колумбом.
Почему-то русское написание слова «Нью-Йорк» очень напоминает его силуэт. «Н» и «Й» — это небоскребы, черточка между ними — мосты над проливами. В английском слове New York ведь нет черточки. И вместо башенок у него какая-то рюмка. То же самое со словом «Москва». Прямо видишь Кремлевскую стену и бублики. Но это, конечно, совпадение.
Один из курсов у меня назывался «Проблемы морали в русской литературе». Изучали Достоевского, Толстого и Солженицына. По первым двум писателям был промежуточный экзамен. А к конечному экзамену, 17 мая, я придумал такой вопрос: «В „Раковом корпусе“ Солженицын описывает людей, стоящих перед лицом смертельной болезни. Каковы различия в их отношении к болезни и лечению; какие моральные сдвиги и изменения во взглядах на жизнь они испытывают? Какому герою вы лично симпатизируете?»