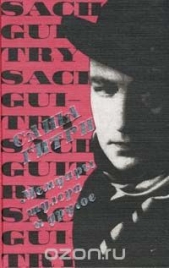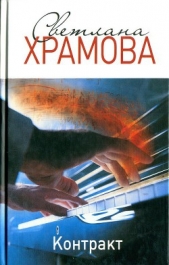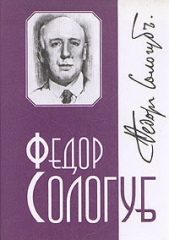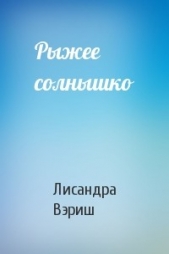Письма

Письма читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Таково мое впечатление от всех этих молодых лиц, — и не только молодых: тут между молодыми и старшими нет разделения, нет того «провала», который так пугает или соблазняет Адамовича.
Тут же и мой ответ на его вопрос: «страшно» ли мне в моей «пустыне»? Не так страшно, как он думает, потому что в пустыне со мною очень многие. Мир для нас всех, без России — пустыня, и, все мы, говорящие миру о Ней, Ее зовущие в мире — до некоторой степени, «глас вопиющего в пустыне». Но пусть вспомнит Адамович, чей это был глас, и Кому он приготовил путь. Вспомнив это, он может быть, поймет, почему моя надежда все-таки больше моего страха.
А если не поймет и будет утверждать, что в «его поколении» — в «послевоенной молодежи» — верховное правило: «моя хата с краю — наплевать на все», — и если он сам, как я надеюсь, этого не хочет, то мне будет легко обернуть вопрос и спросить его самого: не страшно ли ему в его пустыне?
Еще одно слово в защиту — странно сказать — Наполеона. Адамовичу кажется, что тема эта, в моей идейной постановке, далека от современности, отвлечена и «фантастична». Едва ли с этим можно согласиться, если вспомнить, чем была и что есть идея Наполеона для современной Европы. Но и для России, судя по слухам, доходящим оттуда, тема о Наполеоне, кажется очень современна; там много говорят о нем и, конечно, еще больше думают, между прочим, в той же идейной постановке, — «обуздатель и устроитель хаоса», — которую я имел в виду. Хорошо это или дурно, другой вопрос, но в обоих случаях, дурном и хорошем, с этим нельзя не считаться. Кажется, именно в этом несчитании и заключалась бы действительная «несовременность» и «фантастичность», призрачность.
DE PROFUNDIS CLAMAVI [24]
Открытое письмо Эмилю Бюре
[Впервые: Возрождение. 1927. 17 октября. № 867.]
Мой дорогой друг,
вы требуете невозможного: чтобы я помолодел — поглупел на шесть лет. Без этого я бы не мог присоединить мой «свободный громкий голос» к тем невнятным, почти загробным, голосам русских писателей, взывающих к «совести мира», к тем страшным голосам, на которые ответило молчанье, еще более страшное.
«Совесть мира»! Мы с вами, Бюре, кое-что знаем о ней и, глядя друг другу в глаза, только усмехаемся, как авгуры. А что, мой умный, старый друг, — ведь и вы, за эти шесть лет постарели, поумнели, хотя слава Богу не так, как я, — а что, не позавидовать ли нам этим юным безумцам, этим погребенным заживо, все еще стучащим в крышку гроба, все еще верящим в «совесть мира»? Страшно задыхаются они, умирают, живые в гробу, но, может быть, все-таки с большим человеческим достоинством, чем мы с вами живем?..
Вы сами виноваты, мой друг, что я пишу это «открытое» и, кажется, слишком откровенное письмо. «Друг» — не пустое слово в моих, в наших устах: русские писатели в изгнанье помнят и никогда не забудут, что вы наш единственный друг во Франции — друг не на словах, а на деле: друзей на словах у нас чересчур много. Это письмо — лучшее доказательство того, что я это помню. Мне бы и в голову не пришло писать его никому, кроме вас. Но знаете, Бюре, сейчас, когда я вам это пишу, я уже начинаю сомневаться, достаточно ли я постарел — поумнел; не покажется ли вам и этот мой чуть внятный голос из преисподней все-таки слишком громким: не бросите ли вы моего письма в корзинку, как невозможное по «молодости — глупости»? Ну что ж, бросайте. Но сначала прочтите. Может быть, когда-нибудь вспомните…
Шесть лет назад, только что вырвавшись живым из гроба, я был так же молод и глуп, как те, оставшиеся в гробу; так же думал, что совесть мира молчит о России, потому что не знает правды; но стоит только сказать ее, чтоб мир возмутился, ужаснулся и кинулся тушить не наш, а свой пожар, спасать не нас, а себя от общей гибели. И я говорил, кричал, вопил, умолял, заклинал. Стыдно вспомнить теперь — или, может быть, не мне стыдиться? — к кому я только не лез с моею правдою.
Лез к папе, чьи кардиналы пили потом здоровье русских коммунистов, этих отъявленнейших за всю историю христианства, антихристовых слуг; лез к маршалу Пилсудскому, смывающему ныне с Польши нечистую кровь Войкова слезами русских изгнанников; лез к мистеру Уэлльсу, севшему, кажется, первым гостем за пир «людоедов»; лез к г. Эррио, осчастливившему Францию признаньем СССР; лез даже к Фритьофу Нансену, получившему свою Приволжскую концессию за тридцать сребреников — цену русской крови…
И вы хотите, Бюре, чтоб я еще к кому-то лез. К кому же? Уж не к этой ли парочке, Дюгамелю — Дюртэну, забывшей за хлопотами о литературной конвенции, спросить своих любезных хозяев-чекистов, отчего в их бокалах так зловеще розовеет шампанское?
Нет, будет с меня!
«Услышьте, узнайте правду о нас», — кричат те из гроба. Как будто вы, французы, европейцы, все народы мира, не знаете правды; как будто не вашими руками, без вашей дружной помощи, сделано с Россией то, что сделано. Нет, мой друг, уж лучше помолчим о правде…
Знаете ли, какое у меня чувство от этих шести лет? Вот какое: я обивал все дороги, лазал на все чужие лестницы, и отовсюду вытолкнут хуже, чем бесстыдный нищий, — как последний дурак, который не может утешиться об украденных у него во время пожара «серебряных ложках». Руки мои избиты до крови даже не о запертые двери, а о глухую стену. В вашей европейской «свободе», в страшном бесчувствии вашем к вашей же собственной гибели, я задыхался, как задыхаются люди, посаженные в чекистскую камеру с пробочными стенами. И вот, Бюре, ужаснитесь моей «неблагодарности»: я иногда не знаю, какая из двух «пробок» удушливей — ваша или наша.
Ужаснитесь, но поймите, почему я не могу сказать ни слова о вопле тех погибающих братьев моих, которых невинный г. Дюртэн невинно называет «анонимами», намекая, что «аноним» значит «трус» или «лжец», и обвиняя их в том, что эти люди «не нашли для своей страны ничего, кроме жестоких слов». Я не буду спрашивать г. Дюртэна, но, может быть, его спросите вы, Бюре, как у него хватило духу осквернить французскую печать этою мерзостью и на что ему эти имена. Не думает ли он, что хлопоты его о литературной конвенции с дьяволом пойдут успешнее, когда анонимы раскроются, и шампанское в чекистских бокалах чуть-чуть больше порозовеет?
И так, ни слова об этом. Лучше я сообщу вам другое письмо из России, может быть, еще более страшное и не менее для вас французов, европейцев, поучительное. Вот оно.
«Вы спрашиваете, что у нас происходит и какие у нас виды на будущее… Сколько бы ни писали в Европе о сегодняшней русской действительности, все это будет далеко от ужаса переживаемых дней… Хватают встречных и поперечных… Впечатление такое, что одна меньшая часть жителей СССР решила переарестовать и по возможности уничтожить другую, большую часть… По Москве сейчас ходит каторжная шутка: так как в Нарыме надзора мало и людей все прибывает, то, в конце концов, там образуется такая армия, что она пойдет на Москву и свергнет большевиков.
Кроме шуток, — в этом, кажется, наша единственная надежда на спасенье… Мы не боремся и не можем здесь судить, почему Европа и Америка, наперекор рассудку и вопреки постоянно произносимым громким речам, поддерживают и питают русский, а с ним и мировой большевизм, но факт остается фактом. Все, все без исключенья у нас убедились теперь в этом. Сами большевики от изумленья разводят руками… Совсем еще недавно, когда Англия выгнала большевиков, и вслед за этим, американский посол, кажется, в Париже в громовой речи приветствовал такой шаг и рекомендовал всему миру последовать английскому примеру, — тогда на одну секунду нам показалось, что мировое затмение начинает проясняться. Но уже через день мы узнали, что Англия совсем не отказывается от торговых связей с большевиками. А еще через неделю, с Америкой было заключено несколько крупных сделок… Вот вам и разрыв, вот и громовая американская речь. Уверяю вас, что все это подействовало на нас гораздо более угнетающе, чем расстрелы и аресты… Большевики только и живы, только и дышат экономическими сношениями с Европой и Америкой. Без этого они буквально не просуществуют и полгода… Если прекратить с ними торговать, тогда они даже не завоют, а прямо станут на колени: делайте с нами, что угодно, голыми руками берите, только спасите от собственных мужиков и рабочих… Ликвидация будет моментальная и беспощадная.