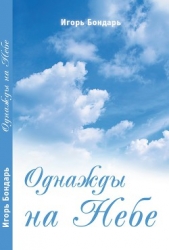В соблазнах кровавой эпохи

В соблазнах кровавой эпохи читать книгу онлайн
О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, - одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная... В этой книге Наум Коржавин - подробно и увлекательно - рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Редактор Зиновий Самойлович Мильман встретился со мной где-то около завода, поговорил, попросил даже что-то из моего прочесть, спросил, приходилось ли мне писать для газеты, и, узнав, что я печатался в газете киевского "Арсенала", дал мне пробное задание: написать несколько призывов, в том числе - я его единственный и запомнил - беречь электричество (с топливом было плохо).
По этому поводу я написал следующие пламенные строки:
Чтоб лампа час светила нам,
Угля уходит двести грамм.
Товарищи! Гасите свет,
Когда в нем надобности нет.
Кажется, это потом даже расклеили в виде плаката. Мне выписали пропуск, и я стал регулярно бывать в редакции. Под псевдонимом Наум Злой печатал стихотворные фельетоны и другие стихотворные поделки. Фельетоны - поскольку все они были на местные темы - находили некоторый отклик. Я получил возможность обедать в рабочей столовой, что много для меня тогда значило.
Редакция состояла, в основном, из вполне приятных, но случайных в профессиональном смысле людей. Напряженности возникали, в основном, вокруг редактора, который один в этом коллективе был профессиональным журналистом: до войны работал в "Московском комсомольце". Думаю, что он был неплохим человеком, но с другими неплохими людьми в своем коллективе ладил плохо. Это бывает. Не помню, в чем было дело, но помню, что нарекания на него, хотя подчас принимали входившую тогда в моду антисемитскую окраску, сами по себе бывали справедливы. Окраска эта меня смущала не столько даже потому, что была обидна лично мне, сколько потому, что нарушала мое представление о советском обществе. Но люди, которые это допускали, не всегда бывали мне неприятны и относились ко мне хорошо. Антисемитами они не были. Потом я понял то, что до многих не доходит и посегодня, - что и в этом вопросе не всякое лыко в строку. А тогда нервы у всех были напряжены, все взрывалось...
Особенно много мне рассказывать о газете нечего. Работали там взрослые женщины и относились ко мне как к мальчику, по-матерински. Даже недолго у нас проработавшая беременная жена командира Красной Армии, которой действительно приходилось тяжело и которая поносила всех и вся, особенно евреев. Возмущали ее даже старики евреи, которых она встречала в поездах и на вокзалах во время эвакуации, - возмущали тем, что им умирать пора, а они куда-то едут, места занимают, в то время как и молодым мест не хватает. Она прекрасно знала, что я еврей, вовсе не хотела меня обидеть, но приходилось ей туго, и все (не только евреи) ей действительно мешали. Но встречался я и с другими видами антисемитизма, менее извинительными.
Врезался в память, поразив меня по первости, например, такой случай. В редакцию "на огонек" захаживало много людей, среди прочих один инженер, заведующий лабораторией, человек, как мне тогда казалось, интеллигентный. Отношения у меня с ним были вполне шапочные, но вроде доброжелательные. Любил он слегка закладывать и по своему положению завлаба имел к тому возможности. Однажды в состоянии весьма среднего подпития, натолкнувшись на меня где-то в уголке заводского двора, он вдруг тихо, как-то даже интимно и проникновенно, но очень недоброжелательно спросил, указывая пальцем на мои лапти:
- Зачем прибедняешься? У папки твоего небось миллион припрятан...
Опять "папка" и опять "миллион"! Только теперь не в устах темного машиниста "овечки" с невзрачной станции Шакша, а инженера! интеллигента! москвича! Я был потрясен. Дело не в антисемитизме, а в примитивной глупости, которую не стеснялся высказывать этот неглупый человек.
С газетой связано еще одно острое переживание - прикосновение к тайнам. А именно - радиоприемник. У всех граждан приемники были отобраны в начале войны, а в редакции он был - служил для записи официальных материалов, в первую очередь сводок Информбюро. Их ежедневно в определенное время раздельно и медленно передавали дикторы из Москвы. Иногда в эти передачи вплетались немцы. Немецких передач полностью я не слышал ни одной. Только однажды услышал сводку, где была удивившая меня фраза: "По всему фронту германские войска вели тяжелые бои с Советами" - видимо, в противовес нашему: "с фашистами". Я удивился, что наших солдат и офицеров называют Советами. А однажды - летом 1942-го - я услышал и более пламенный пассаж: "Поруганная казацкая честь, вырванная казацка сабля, уничтоженная казацкая слава - все это сделали жиды и коммунисты!" Слова были непривычны, а голос и интонация - вполне знакомые, агитпроповские.
Но вернемся к редактору. Я не знаю, насколько он котировался в Москве. В конце войны в "Московском комсомольце" его никто из тех, кого спрашивал, не помнил. Но, может, я спрашивал не тех, все быстро менялось. Лет ему было тогда "в районе сорока", и был он уже опытным советским журналистом.
Был он, как я теперь понимаю, из тех "еврейских мальчиков", которые идентифицировали себя с советской властью, делали это со всей страстностью и самоотдачей, но при этом не очень понимая природу собственного энтузиазма. Кто мыслил так: разве эта власть не самая справедливая, если она мне дала все? Не замечая, что при этом такое же "все" она при помощи их активности и неграмотного энтузиазма отнимала у других, иногда более достойных. Между тем это "все", точней, равные возможности дала этим мальчикам вовсе не большевистская, а еще "буржуазная", Февральская революция, но она была давно, быстро кончилась, а в пропагандистское представление о ней никакие заслуги не входили.
Такими "мальчиками", получившими "все" и так это воспринимавшими, были и бывали тогда и потом не одни только евреи. И не все евреи были такими "мальчиками" - в наше время приходится оговаривать такие очевидности. Эта благодарность за "все" была чертой слоя, даже легальным критерием верности, и с национальностью это не связано.
Надо ли доказывать, что считать этих "еврейских мальчиков" наиболее распространенным типом представителя правящего слоя или - того хуже - просто типом молодого еврея тех лет опрометчиво.
Но на самом Мильмане я задерживаюсь больше потому, что он общался со мной интеллектуально, воспитывал меня, и, кроме того, потому, что он представляет сегодня интерес как исторический тип, давно уже сошедший со сцены. Физически те, кто раньше относился к этому типу, продолжали существовать еще долго, но психологически он исчез, перестал ощущаться. Антисемитизм потом направлялся против интеллигентов еврейского происхождения (с тайной целью задеть интеллигентов вообще), а о них просто забыли. Вспоминают только сейчас - в поисках виновных. Но в 1942 году, после всех процессов над былыми своими вождями и кумирами, этот тип еще существовал во всей своей строго оберегаемой инфантильности и внутренне - в мыслях и чувствах - оставался все тем же функционером советской власти, как был всегда. И того, что с ним уже фактически покончено, старательно не замечал.
Но беседовали мы с Мильманом о другом - о партии и ее печати. Помню, как убежденно доказывал он мне целесообразность того, что газета не имеет права критиковать директора - партии нужен его авторитет. Я с этим не соглашался. Кто был прав? Я давно уже понимаю, что все это глупость, ностальгия по "настоящему комсомольству" начала тридцатых. Тогда власть нуждалась в козлах отпущения и в опорочивании всего, что было до нее. Теперь она нуждалась в другом. Мильман воспринял и это. На вопрос, как же можно создать авторитет, если его нет, Мильман мне серьезно ответил:
- Можно. Вот мы, - имелась в виду печать, - создали авторитет Буденному.
Я опешил... Как и для всех советских детей, авторитет Буденного дл меня был чем-то, существующим со дня творения. А тут оказывалось - создан. Но Мильман этим гордился: да-да, партия при помощи печати может создать авторитет любому, кому сочтет нужным. Я не знаю, понял ли Мильман когда-нибудь страшный смысл своих слов. А что он вообще понимал?