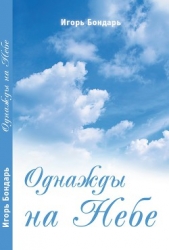В соблазнах кровавой эпохи

В соблазнах кровавой эпохи читать книгу онлайн
О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, - одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная... В этой книге Наум Коржавин - подробно и увлекательно - рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Преддверием этому был какой-то парадный пленум, «тусовка», как сказали бы сегодня, правления Союза писателей СССР, состоявшийся в Киеве. Кажется, он был посвящен юбилею Тараса Шевченко. Мы тогда относились к этому серьезно — бегали к гостинице «Континенталь» смотреть на приехавших писателей. Помню долговязую фигуру молодого Михалкова, помню Кассиля, Алексея Толстого. Я испытывал некоторый трепет, завидовал. Где мне было знать, что они вовсе не в восторге от необходимости присутствовать на предстоящих заседаниях (другое дело — погулять по Киеву), что там вовсе не придется заниматься серьезным делом или интересными разговорами — хотя бы о том же Шевченко, — а нужно будет только толочь воду в ступе, демонстрировать расцвет культурной жизни. А ведь многие из них и впрямь были еще писателями.
Тогда, конечно, никаких личных контактов с московскими писателями у меня не возникло. Контакты начались чуть позже, когда они стали бывать в Киеве по одному. Наверно, они и раньше так приезжали, но я был мал и это проходило мимо моего внимания. А теперь я начал их посещать в номерах гостиницы «Континенталь», где они обычно останавливались.
О том, что приезжал Николай Асеев, я уже рассказывал. Он выступал публично и читал главы из поэмы «Маяковский начинается», за которую получил или должен был получить Сталинскую премию. Поэма, кстати, была вполне честная, филиппика насчет «литературного гангстера Авербаха», который тогда был «разоблачен» как «враг народа», была не конъюнктурным подвыванием стае, а искренней ненавистью. Как и филиппика против другого, правда, более талантливого и ловкого, так никем и не разоблаченного, а до конца жизни всех разоблачавшего литературного гангстера Ермилова. Он был представлен под прозрачным псевдонимом Немилов, но с указанием должности и места работы («Вы нынче в «Красной нови» у кормила, / Решив, что корень кормила от корм»). Вещь была слишком «партийная» (несла знамя футуристически-лефовской партии), но вполне тешила мою тогда футуристическую душу. Кроме собственных стихов Асеев на своих вечерах читал две главы из пастернаковского «Пятого года», что было поступком. Пастернак был в немилости. Только недавно почти все более или менее видные писатели были награждены орденами. Пастернака наградой обошли. Это, конечно, смешно, но смешно сегодня. А тогда, как ни странно, ордена принимали всерьез. Не только известные писатели, но и мы — все жили внутри этого заданного, недобровольно-инфантильного мира. Не знаю, как ему самому, но многим и многим было обидно, что Пастернака обошли. И кроме того, это был знак для других. А Асеев его пропагандировал с трибуны. Кстати говоря, он читал хорошо, выразительно и многим впервые открывал этого большого поэта. Все это к нему располагало.
И я пришел к Асееву (не помню, договорившись или нет). Я подошел к нему после выступления и о чем-то заговорил — вероятно, ругал гладкопись и сокрушался о забвении традиций Маяковского. Это забвение — при внешнем почитании — меня тогда волновало. Его тоже, и он, видимо, согласился на мой визит. Когда я к нему пришел, у него кто-то сидел, но принял он меня приветливо. Был он высок, большеглаз, приятен, свободен в манерах. Поговорили, потом я читал ему стихи. Тогда-то ему и понравилась «Жуча», о чем я уже рассказывал. Он велел переписать, для него, что я и исполнил, добавив еще одно стихотворение, названное мной «Из цикла „Собственность”».
Приверженность к собственности, корежащей души, он ненавидел всю жизнь, я тогда тоже — все это входило в антимещанский комплекс. Но при этом он мне рассказывал о доме своих родителей, об укладе, о блюдах и напитках исконно русских, и рассказывал отнюдь не в хулу. По поводу какого-то моего антимещанского стихотворения, давно мной теперь забытого, где город как окружающая среда ощущался враждебно, сказал:
— Вы вот так про город... А это вам кажется. Он не враждебен вам. Просто пока ни вы его не знаете, ни он вас...
Не так глупо и не так футуристически сказано.
Вот еще одно его высказывание, не помню, по какому поводу. На этот раз почему-то об итальянцах:
— А итальянский мужик что — фашист? Он такой же фашист, как подмосковный мужик коммунист. Знаете, как поют?
И он стал скандировать:
Надоело пушше смерти
В доме е-лек-три-чество.
Ишшо пушше надоело
Качество-количество.
— Это ведь против нивелировки, а не против электричества,— закончил он.
В общем, он оказался гораздо более почвенным, чем его литературная позиция. Не думаю, чтоб я все это тогда освоил, но было мне интересно и какие-то мои представления расширяло. Встреча эта имела неожиданное продолжение. Оказывается, Асеев в Москве рассказывал обо мне и показывал мои стихи многим литераторам, аттестуя их наилучшим образом. И когда я приехал в 1944 году в Москву, многие имели некоторые представления обо мне.
Приходил я и к Иосифу Павловичу Уткину. Он был широко известен тогда как автор «Поэмы о рыжем Мотэле» и многих лирических стихов. Кроме того,— может быть, именно по этой причине — он был мальчиком для битья. Лирика до самой смерти Сталина находилась под подозрением, в лучшем случае извинялась, если перекрывалась другими заслугами. Так ведь и сборники строились — лирика в самом конце, после «серьезного чтения». Кроме Пастернака, Уткин был единственным из известных мне тогдашних «взрослых» поэтов, которого обнесли на пиру — не наградили орденом на общем празднике расцвета советской литературы. Не знаю, кто постарался,— по-моему, это было несправедливо. Конечно, он не был звездой первой величины. Меня давно не умиляет «Рыжий Мотэле», да он и сам, как мне показалось, был не в восторге от того, что его имя как-то подмигивающе ассоциируется именно с этой поэмой. Он был лириком, а не юмористом. Впрочем, вероятно, и ценность его лирики весьма относительна. Лирика требует внутренней свободы, а он начинал как комсомольский поэт, другими словами — добровольно ограничивал свой внутренний мир и свои реакции искусственной целенаправленностью. На этом была печать двадцатых годов — в тридцатых у Смелякова это выглядело иначе, иногда нелепей, но трагичней и противоречивей. Впрочем, может, я и не прав — я давно не читал Уткина. Его обвиняли в мещанстве, приводили в доказательство строки из стихотворения «Гитара»:
Мне за былую муку
Покой теперь хорош.
(Простреленную руку
Сильнее бережешь.)
Надо сказать, что и я с этим к нему сунулся от большого ума. Дескать, как вы такое допустили? И получил резонную отповедь: «Надо думать самому, а не повторять за другими»". И, естественно, он был прав, в этих строках — особенно в контексте стихотворения — отчетливо слышалась самоирония. Чувствовалось, что он травмирован своим остракизмом. В одном из объявлений об его выступлении по инерции было написано: «Выступление поэта-орденоносца» — тогда все приезжавшие были орденоносцами. Он с достоинством поправил: «Нет, я не орденоносец». От Уткина, когда мы вышли с ним пройтись, я впервые услышал о Вяземском, о Денисе Давыдове — для меня это все в то время была terra incognita. Вообще он тогда был ориентирован на культуру, на историю русской поэзии. Для меня же поэзия в принципе начиналась с Блока, а где-то в тылу, как предыстория, помещались Пушкин, Лермонтов и Некрасов. Мне кажется, что в нем шла какая-то напряженная внутренняя работа. Больше я его никогда не видел. В 1944 году, когда я уже жил в Москве, он погиб в авиакатастрофе.
Весьма красочным было мое знакомство с Ильей Григорьевичем Эренбургом. Меня потом с ним связывали пусть не очень близкие, но теплые отношения. Но они не были продолжением этой довоенной встречи — он о ней начисто забыл. А я помню до сих пор, что естественно. Эренбург был тогда фигурой знаменитой и интригующей. В то время цвела еще вовсю советско-германская дружба, хотя поговаривали о трещинах и называли немцев «наши заклятые друзья». А он только что вернулся из захваченного ими Парижа и опубликовал в газете «Труд» очерки о падении Парижа. Следовательно, «что-то знал», был посвящен. На самом деле, как он неоднократно писал, ничего он не знал, но откуда мы тогда могли знать, как все обстоит «на самом деле».