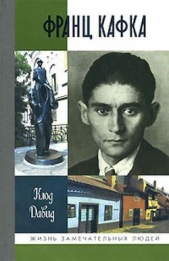Письма к Максу Броду

Письма к Максу Броду читать книгу онлайн
Классическая немецкая литература началась не так давно — с тех пор, как Мартину Лютеру в шестнадцатом веке удалось (своим переводом Библии, прежде всего) заложить основы национального литературного стиля. С тех пор каждое из последующих столетий обретало своих классиков. Семнадцатый век — Гриммельсгаузена и Грифиуса, восемнадцатый — Гёте и Шиллера, девятнадцатый — романтиков и Гейне, двадцатый — Томаса Манна, Музиля, Рильке и Кафку. Франц Кафка занимает в этом списке особое место. По количеству изданий, исследований, рецензий, откликов, упоминаний он намного опережает всех своих современников. По всем этим показателям (как и по стоимости рукописей на международных аукционах) он уже приближается к Гёте, на которого всю жизнь взирал как на Бога. Однако ничего этого могло не быть в посмертной судьбе Кафки, если бы его близкий друг Макс Брод не осмелился нарушить завещание писателя и сжег все его рукописи. Только благодаря Максу Броду мы и знаем произведения Кафки в том объеме, которым располагаем. Настоящий сборник — это литературный памятник дружбы двух писателей, одному из которых, Максу Броду, судьба уготовила роль душеприказчика своего великого друга.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Утро, без четверти восемь, дети ([вписано: ] которых Оттла потом все-таки прогнала) уже тут, после на редкость хорошего дня, вчерашнего, они уже поспешили сюда, пока их лишь двое и одна детская коляска, но этого достаточно. Они мой «семейный совет»; когда я, даже не подходя к окну, убеждаюсь, что это они, мне кажется, будто я поднимаю камень и вижу под ним само собой разумеющееся, то, чего я ожидал и боялся: мокриц и всяких ночных тварей; или скорее не так, не дети — ночные существа, это они, играя в свои игры, подняли камень с моей головы и «удостоили» меня заглянуть туда. Как вообще не они и не семейный совет самое худшее, и то и другое — в одной упряжке бытия; беда, в которой они неповинны и из-за которой они достойны скорее любви, чем страха, — это то, что они последняя станция бытия. За ними начинается — как бы нам ни казался страшным их шум или радостной тишина — хаос, о котором возвещал Отелло. Здесь мы с другой стороны подходим к проблеме писателя. Возможно, я этого не знаю, писать начинает человек, овладевший хаосом; тогда возникают святые книги; возможно, он любит, тогда возникает любовь, а не страх перед хаосом. Лизхен — это ошибка, хотя и всего лишь терминологическая: поэт начинается только в упорядоченном мире. Не означает ли чтение «Анны», которую я, кстати, читаю уже давно и с радостью, что ты все-таки что-то написал о Гауптмане?.. А теперь тебе надо читать и «Пасху», наверное, во время поездки?
Что до истории литературы, у меня было всего несколько минут, чтобы ее полистать, было бы интересно прочесть ее внимательнее, она выглядит музыкальным сопровождением к «Сецессио Иудаика», и удивительно, как в течение одной минуты эта книга помогает читателю, впрочем уже благосклонному, стройно все упорядочить, включая массу полузнакомых, наверняка достойных писательских имен, которые возникают в главе «Наша страна», расположенных в соответствии с ландшафтами, — немецкое достояние, недоступное еврейскому пониманию, и пусть Вассерман каждый день будет вставать в четыре утра, пусть он всю свою жизнь пашет нюрнбергскую землю от края до края, она ничего ему не ответит, за ответ ему придется принять красивые нашептывания из воздуха В книге нет именного указателя, наверное, поэтому я встретил лишь однажды упоминание о тебе без враждебности: кажется, это было сравнение романа Лёна с «Тихо», «Тихо» со всем уважением был назван подозрительно диалектическим. Меня даже похвалили, хотя лишь наполовину, как Франца Кафку (наверное, Фридрих Коффка), который как будто бы написал хорошую драму.
Ты не упоминаешь и про Билека, я бы хотел отдать его в твои руки. Я давно думаю о нем с большим восхищением. Последний раз мне, признаться, напомнило о нем очередное упоминание в статье «Трибуны», посвященной другим темам (автор, кажется, Халупны). Если бы можно было покончить с этим позором, с умышленно-бессмысленным обеднением Праги и Богемии, когда заурядные работы вроде «Гуса» Шалоуна или ничтожные вроде «Палацки» Сухарда выставляются на почетном месте, а совершенно несравнимые с ними наброски Билека к памятнику Жижке или Коменскому остаются неизвестными, это было бы замечательно, и правительственная газета была бы для этого самым подходящим местом. Я, конечно, не знаю, для еврейских ли рук это дело, но твоим я доверяю все. Твои замечания о романе устыжают меня и радуют, примерно как я радую и устыжаю Веру, когда она, как это довольно часто случается, сделав нетвердый шаг, нечаянно садится на свой маленький задик, а я говорю: «Je ta Věra ale šikovná» . Она-то, несомненно, знает, поскольку чувствует задом, что села неловко, но мое восклицание так действует на нее, что она начинает счастливо смеяться, убежденная, что именно так делается кунштюк настоящего усаживания.
Напротив, сообщение господина Вельча [117] мало что доказывает, он a priori убежден, что собственного сына можно только хвалить и любить. Но в таком случае — с чего бы здесь загореться глазам. Сын, неспособный жениться, продолжить фамилию; в 39 лет уже на пенсии; занят лишь своими эксцентрическими писаниями, от которых хорошо или плохо только ему; неспособный к любви; чуждый вере, даже молитвы о спасении души от него не дождешься; с больными легкими, к тому же заполучил свою болезнь, как совершенно справедливо считает отец, когда, впервые покинув на время детскую комнату и будучи неспособным к самостоятельной жизни, нашел себе нездоровую комнату у Шенборна. О таком ли сыне можно мечтать.
Ф.
Что делает Феликс? Мне он больше не отвечал.
[Плана, штемпель получения 31.VII.1922]
Дражайший Макс, наскоро еще один привет перед отъездом (пока еще позволяют внизу хозяйка, племянник и племянница — хозяйкины, я имею в виду). По порядку, как ты писал:
Билек: если ты действительно хочешь попытаться сделать то, о чем я осмеливался говорить лишь как о фантастическом желании, на большее сил не хватало, это меня радует чрезвычайно. Это, по-моему, была бы борьба того же уровня, что борьба за Яначека, насколько я способен понять (чуть было не написал: борьба за Дрейфуса), причем предметом борьбы в таких случаях являются не Билек, Яначек или Дрейфус (потому что у него, возможно и наверное, дела сносные, в той статье писалось, что у него есть работа, выставлена уже седьмая копия статуэтки «Слепой», и неизвестным его назвать уже нельзя, в той же статье — которая вообще посвящена была отношению государства к искусству — он был даже назван «velikan» , борьба не должна идти за что-то необычное, это снизило бы ее уровень), а само искусство скульптуры и современное состояние человека. При этом я, конечно, все время думаю лишь о колинском Гусе (не столько о статуе в галерее Современного искусства или о памятнике на Вышеградском кладбище, а куда больше о расплывшейся в памяти массе не очень доступных мелких работ в деревне и о его графике, которые видел раньше), когда выходишь из переулка и видишь перед собой большую площадь с маленькими домами вокруг, а посередине Гуса, в любое время, в снег и летом, все вместе образует восхитительное, непостижимое и потому как будто произвольное, в каждый новый момент заново формируемое этой могучей рукой, включающее в себя и самого зрителя единство. Примерно такое же впечатление производит овеянный дыханием времени дом Гёте в Веймаре, но за творца, создавшего все, требуется тяжелая борьба, и дверь его дома все время закрыта.
Было бы очень интересно узнать, почему убрали памятник Гусу; мне вспоминается рассказ моей умершей кузины, что еще до его установки все городские деятели были против, и многие оставались против еще потом, похоже, и до сих пор.
Новелла: жаль, что я не могу познакомиться с окончательным вариантом.
Лизхен понять, конечно, гораздо легче, чем М. Что бывают такие девушки, мы учили в школе, но мы, конечно, не учили, что их можно любить и тогда они становятся непонятными.
Феликс: волшебника-психиатра трудно себе представить, но Ф., конечно, достоин даже самого невероятно-прекрасного… Почему он не может взять «Еврея», это было бы очень хорошо, а если нет, очень печально. Конечно, в данный момент это меньше, чем «Самооборона», но все же достаточно много, чтобы могло хватить (я исхожу из того, что «Еврей», если его мог редактировать Хеппенхайм, может редактироваться и из Праги), а должность была бы представительская и потребовала бы от него гораздо меньше работы, чем «Самооборона». Конечно, прекрасная «Самооборона» оказалась бы в опасности, это было заметно уже в промежуточное правление Эпштейна, которое осталось в памяти лишь вещами вроде «Вперед выходит русский халуц» [118], «Самообороной» нельзя заниматься между прочим, она требует такой самоотдачи, как у Феликса… Что до меня, то я, увы, могу помыслить о вакансии в «Еврее» для себя лишь в шутку или в полудремотных мечтаниях. Как я могу претендовать на что-то подобное при своей бескрайней невежественности, полном отсутствии связей с людьми, не чувствуя под собой прочной еврейской основы? Нет, нет.