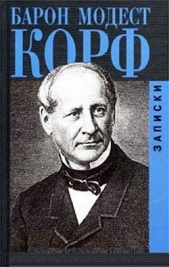Записки старого петербуржца
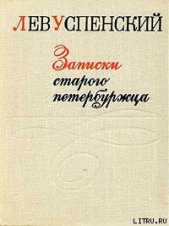
Записки старого петербуржца читать книгу онлайн
Книга известного ленинградского писателя, блестящего знатока и летописца города на Неве, доносит до нас живые и яркие картины жизни Петербурга в начале XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Надо заметить, что к этим годам мамина общественная активность не только не спала, — наоборот, возросла и продолжала возрастать. Однако от радикальных настроений ранней молодости она незаметно переходила к «просвещенному либерализму». Папа, став из коллежского надворным, из надворного статским советником, не изменился ни на единую йоту: он был и оставался в первую голову отличным инженером и только уж затем — делающим сносную карьеру чиновником. Мама же, по женской слабости, с каждым годом чувствовала себя все ближе к положению «статской генеральши», которой уже ни возраст, ни общественное место больше не разрешат некоторых безумств юности.
Из радикального Выборгского коммерческого она перевела нас в отличную, которой я по гроб жизни благодарен за великолепное обучение, но уже явно только либеральную, гимназию Мая. С рабоче-студенческой Выборгской стороны мы перебрались на основательный и академический Васильевский. От спорадического и веселого участия в студенческих благотворительных вечерах и концертах, где она была и швец и жнец и в дуду игрец, мама поднялась теперь — ей в тринадцатом году должно было исполниться тридцать семь лет — до председательствования и заместительствования в разных весьма уже солидных обществах и лигах: то в Лиге равноправия женщин, под главенством этакой русской полусуфражистки, Поликсены, да еще Несторовны, Шишкиной-Явейн; то в Обществе содействия внешкольному образованию, где председательствовала Анна Сергеевна Милюкова, супруга самого «туркобойцы» Павла Николаевича Дарданелльского, лидера конституционно-демократической партии, а проще говоря — «первого кадета» [21]. И наша жизнь, жизнь маминых сателлитов, значительно изменилась.
Теперь, обозрев мою отроческую длинноватость, она задумалась. Именно в качестве заместителя председательницы упомянутого Общества она была обременена добычей средств для него. Помнится, год назад она устраивала лекцию на модную музыкальную тему — об «Электре» Рихарда Штрауса. Лекция принесла известный барыш.
Был организован также очень модный в те годы общегородской кружечный сбор: по улицам ходили добровольцы со щитами, на которых были наколоты значки на булавках, и с кружками для пожертвований. Началось это с международного дня «Белого цветка» — ромашки, а потом всевозможные «цветки» посыпались десятками. Редкая неделя проходила без щитов, значков и кружек. «Белый цветок» в 1912 году собрал много, что-то около 200 тысяч рублей; следующие, нарушившие мудрое римское правило «Не бей дважды по одному месту», имели куда меньший успех. Мамино Общество (и мы, два брата, в числе сборщиков) торговало на стогнах и улицах Санкт-Петербурга «Цветком вереска» (узнаю мамин выбор и вкус), но, видимо, без потрясающего успеха, потому что в тринадцатом году Общество обратилось вновь к идее платных лекций.
В те дни из далеких краев вернулся на родину Константин Бальмонт — фигура, которая вполне могла дать «битковый сбор»: у мамы было верное чутье на такие вещи. Общество пригласило прославленного поэта прочесть в Соляном городке публичную лекцию «Океания» — он побывал и там. Билеты шли нарасхват: одни жаждали послушать новые стихи того, кто написал «В безбрежности» и «Под северным небом»; другие рвались хоть взглянуть на человека, на весь мир прокричавшего в русском стихе, что он «хочет зноя атласной груди» и намеревается «одежды с тебя сорвать». Он кричал, а мир в почтительном смущении внимал этому крику: крик казался «contemporain» [22]: «За что-то же его прославляют??!»
Я стоял перед мамой, а мама рассматривала меня. Потом она вздохнула: «Да, придется уже настоящий… Светло-серый! Одевайся, поедем к Мандлю. Нет — к Эсдерсу-Схефальсу…»
Ей хотелось вывезти меня в свет в виде юного «распорядителя» на бальмонтовской лекции. Уже была придумана кем-то изящнейшая распорядительская розетка; к розетке был теперь необходим высокий мальчик в сером костюме. Мама льстила себя надеждой, что меня еще можно будет выпустить именно мальчиком, в таком детском, подростковом пиджачке, при галстуке, но в коротких штанишках «а-ль-англез». Бойскаутиком! Но, оглядев меня, она огорчилась: мальчик крепко вырос из таких одежек!
К Мандлю? К Мандлю меня водили в одиннадцатом году, когда папа был еще надворным. Теперь он стал статским, а это требовало уже Эсдерса и Схефальса у Красного моста. И зачем все-таки эти мальчишки растут? Зачем идет время?!
У Эсдерса (там теперь швейная фабрика имени Володарского) я, от досады сутулясь и делая глупый вид, стоял перед гигантским зеркалом. Уже тогда — да и всю жизнь потом — передо мной маячили две самые страшные угрозы: а что если меня начнут кормить молоком с пенками? Или — еще тошнее — если меня заставят все время «примерять» какую-нибудь одежду?! Я был (да, грешным делом, и навсегда остался) совершенно равнодушным ко всяким одеяниям и стремился воочию показать это миловидным, но презренным барышням, поворачивавшим меня так и сяк перед тройным зеркалом.
Впрочем, мама довольно скоро — это-то она умела! — призвала меня к порядку. Я выпрямился, и продавщица, легонько проведя у меня между лопатками нежной ручкой, дабы «придать линию», сделала экстатическое лицо:
— Как сидит, мадам?! Молодой человек — брат мадам?
Да, тогда умели обольщать покупательниц! За этого «брата» мама моя — умная, самостоятельная в суждениях женщина — могла взять в придачу и два таких костюма…
Бальмонт дал согласие прочесть одну из трех подготовленных им лекций, предоставив устроителям выбирать тему. Лекции были «Океания» (он намеревался рассказывать о своих впечатлениях от Полинезии, а точнее — от маориек и самоанок, так как, по его собственным словам, «во всех краях вселенной» больше всего и прежде всего его «привлекала женщина»), «Поэзия как волшебство» и «Лики женщины».
Поразмыслив и опасаясь скандала — «Лики женщины?.. Гм-гм! О чем же это?», — устроительницы остановились на первой.
Поэт высказался в том смысле, что это ему — решительно все равно; он потребовал только — странно! — чтобы в момент начала лекции на кафедре перед ним лежали цветы: «Мои цветы! Дьяволоподобные цветы: розы, туберозы и мимозы!»
На скромных интеллигенток-устроительниц пахнуло таким изыском, такими «безднами», что все было брошено на добычу «дьяволоподобной» ботаники. Помню, как из дому, где повсюду уже и без того валялись грудами пестрые афиши, билеты, программы с отпечатанными на верхней страничке синим цветом по кремовой бумаге маорийками, трущимися носами вместо приветственных поцелуев, — меня неустанно гоняли по маминым ретивым помощницам — то к некоей Марии Ивановне Стабровской, жене политкаторжанина, жившей в лихой студенческой нужде, но бодрой женщине; то к могучей, черной, басистой и непрерывно курившей Верочке Вороновой, эсдечке, в конец Пятой линии; то к некоему Стасю, студенту-юристу, который «для дела все может». Наконец и с цветами все оказалось в порядке.
В назначенный день я, в новом костюме, — дылда дылдой, но великолепно натренированный на поведение «приличного молодого человека», — с пестрой розеткой на отвороте пиджака, в жилете, в манишке «Линоль» («не имитация, не композиция, а настоящее белье Линоль»", как было написано на всех брандмауэрах города), в таких же, как бы жестяных, линолевых рукавчиках, был приведен, как охотник при облаве на «номер», на главную лестницу Соляного городка (на Фонтанке у Цепного моста) и поставлен там на пост. Я понял из разговоров, что избран занимать именно этот пост билетера потому, что, поставь сюда кого-либо из студентов, он пропустит уйму своих коллег, «а у Льва, слава богу, пока еще никаких таких знакомств нет», и Лев будет беспристрастным и бдительным. Я намеревался это мнение всецело оправдать. Тут, в узком проходике между перилами и деревянным барьером, преграждавшим путь толпе, я и утвердился во всей своей тринадцатилетней беспощадности.
Народу было великое множество; прямо-таки «весь город» возжелал видеть и слышать Бальмонта. Я надрывал билеты, свирепо отвечал, что никакие записки и контрамарки недействительны, и, поглядев на мою тринадцатилетнюю физиономию, даже самые дошлые проникалы видели, что перед ними не юноша, а мальчишка, что мальчишке все — трын-трава, и что, как какой-нибудь бультеррьер, он костьми ляжет, но без билета (или двоих по одному билету) никого не пропустит. Ни самого бородатого профессора, с золотой цепочкой по жилету. Ни нежнейшую деву. Ни опытную дамочку, у которой в прошлом сотни прельщенных контролеров. То-то мне было дело до самых выразительных взглядов таких дам!! И профессоров я видел дома, за чаем, десятками!