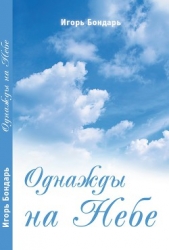В соблазнах кровавой эпохи

В соблазнах кровавой эпохи читать книгу онлайн
О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, - одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная... В этой книге Наум Коржавин - подробно и увлекательно - рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А дело было вот в чем. Явившись в пятый класс, мы узнали, что из наших двух классов намереваются сделать три, из каждого выделив по трети учеников для вновь образуемого. Исходили из принципа, что чем меньше в классе учеников, тем больше внимания каждому. Принцип, что и говорить, прекрасный. Другое дело, что в общегосударственном смысле это, как и то, что в новой школе все десять классов могли учиться в одну смену, не соответствовало никакой экономической реальности.
Но возмущало нас отнюдь не это. Возмущало только «самоуправство» дирекции. Мы проучились вместе четыре года, сдружились, и нам вовсе не хотелось расставаться. И пепел Клааса застучал в мое сердце, жаждущее борьбы за справедливость. Особенно когда я себя увидел в списке переведенных в 5-в (а наш был 5-а). Сначала меня поддержал почти весь класс. Я призывал чуть ли не к забастовке. Кажется, один раз мы таки пробастовали несколько уроков — пошли в кино. Оно и раньше такое случалось, но теперь это проделывалось с высокой целью. Постепенно все утихомиривалось, но я не сдавался — приходил в школу, но на уроки не шел или шел в свой класс. В конце концов администрация сдалась, и меня оставили в покое — в своем старом классе. Так что защитил я только свои личные интересы, а не общественные, как хотелось бы. Произошло это потому, что последних не оказалось — как-то сами собой испарились. После этого мне не раз приходилось выступать как не принято, но больше никогда в жизни не претендовал я на роль народного вожака или трибуна. Выступал в индивидуальном порядке. Иногда мне кажется, что многие народные вожаки конца XIX — начала XX века начинали свою деятельность с не более серьезных поводов, чем я в первый раз, но в отличие от меня не могли вовремя остановиться.
Надо сказать, что это мое глупое противостояние дорого мне обошлось. Видимо, произошла слишком большая нервная растрата, и в конце полугодия я огреб единственную в моей жизни двойку за четверть. Была она по украинскому языку, который я тогда да и после знал довольно неплохо. Не скажу, что двойка эта точно определяла мои знания, но в то же время она не была результатом придирок. Учительница украинского языка, женщина строгая, но умная и с педагогическим тактом, была нашим классным руководителем. Отношения с ней у меня были хорошие. Но как-то так выходило, что получалась двойка — что-то, видно, тогда застопорилось в моем мозгу. У меня и арифметика тогда шла туго — знаменитые запутанные задачи пятого класса. Я никогда не был особым математиком, но всё же не боялся этого предмета, а тут и он шел у меня с напряжением.
В процессе преодоления этих трудностей, часто чисто возрастных, заканчивалось и мое детство. Помню, как мне впервые в жизни сказали «вы». Это сделала именно в это время тетя Варя, торговавшая на углу Жилянской и Владимирской семечками, леденцами и маковниками — так в Киеве назывались маленькие квадратики из мака — то ли с сахаром, то ли с медом. Очень тогда это подняло меня в моих глазах. Я почувствовал себя взрослым. Наступило отрочество.
Неожиданно я набрел сейчас на эту тему — на частную уличную торговлю на нашем углу. Этот «пережиток капитализма» то замирал там, то расцветал, но никогда не исчезал. Торговали чем угодно — леденцовыми петушками или рыбками на палочке, всякого рода и вида конфетами из переплавленного сахара, часто зеленью, в сезон — вареными пшенками (так на Юге называют початки кукурузы). По-видимому, даже еще в начале тридцатых это не возбранялось, продавцов никто не гнал. Потом начались на них гонения, и я видел, как, услышав крик: «Милиционер!» — торговки, подхватив юбки и корзины (обычно они сидели на корточках, скамеечках или кирпичах у своих корзин), спешно разбегались перед железной поступью пролетарской диктатуры. Видел я и как милиционер появлялся неожиданно и сапогом расшвыривал корзины, и тогда несоциалистический элемент разбегался в панике, но все равно на ходу подхватывал корзины и спасал что можно из разбросанного. Печально, что все — и дети и взрослые — относились к этим картинам как к естественным.
Торговками этими поначалу были исконно городские женщины (к ним относилась и тётя Варя), потом их ряды стали пополняться беглянками из деревни.
Стыдно вспомнить, но тогда мы не задумывались о том, кому они мешали, эти торговки, почему их надо было и по какому праву можно было преследовать и обрекать на ту полуподпольную, то ли собачью, то ли близкую к героической, но явно нелегкую жизнь, которую они вели. Их услугами пользовались все, всем они были удобны, в том числе и самым идейным, но к их судьбе все были брезгливобезразличны — кто из идейности, кто и просто так. Через эти каналы входила в нас бесчеловечность. Потом она обратилась против всех. И то, что их гоняли, тоже. Гоняли-гоняли торговок — во имя доктрины, которая была не нужна даже тем, по чьим приказам гоняли, — а теперь и торговать нечем стало.
Впрочем, ряды торговок постепенно редели. К началу войны оставалась почти только одна тетя Варя, торговавшая то одним, то другим. Некоторое оживление в этом смысле я застал после войны, приехав в начале 1946 года в Киев на зимние каникулы. По-видимому, это были неизжитые последствия немецкой оккупации или результат послеоккупационной разрухи, когда начальству было не до того. Почетное место в этом воскресшем торговом ряду занимала все та же тетя Варя, постаревшая, но такая же острая на язык и активная. К 1951 году, когда я посетил родной город после ссылкй, социализм был полностью восстановлен в правах — торговки исчезли.
Но на всех их появлениях и исчезновениях, в сущности, на всем их существовании, мое внимание долго не задерживалось. Я ведь вообще не был приучен уважать старания людей, направленные на личное (их и их семей) благополучие,— с детской прямолинейностью считал, что это, во-первых, отвлекает от общего дела, во-вторых, тем самым обедняет жизнь. К моему огорчению, все вокруг — и далекие и близкие, в том числе и мои родители, — занимались в основном только этим. Как-то сами собой у меня закрывались глаза на то, что давалось им это нелегко. Впрочем, последнее даже усиливало традиционное презрение к мещанству. Казалось, что это все дается им так тяжело чуть ли не по причине их социальной отсталости, а сам я рожден для жизни совсем иной. Такой, как в кино, где люди отдают все свое время исполнению долга, а бытовые вопросы у них то ли вообще отсутствуют, то ли их решает кто-то другой. Впрочем, в этом я бессознательно следовал большевистской традиции, с первых дней своей власти странно связавшей воедино — в своем и общем представлении — особую идейность и бескорыстное служение с особым снабжением. Так что оно даже начинало выглядеть как-то романтически. Правда, при Сталине, когда ореол романтичности утратила сама «идейность» (то, что теперь стали называть этим словом, романтизации не поддавалось), развеялся он и над особостью снабжения. Правда, в этом ореоле уже и не нуждались, поскольку той особости не стеснялись, а поедали недоступное другим с достоинством людей, чего-то в жизни добившихся. Но корни шли оттуда, из романтически-идейных времен...
Далеко, однако, завело меня воспоминание об уличных торговках. Но тогда я о них не думал — не до них было. Однако неблагополучие — прежде всего уже упоминавшиеся ложь и внутреннюю пустоту происходящего — я ощущал. А раз так — следовато искать истину. И я погрузился в основу основ — в чтение основоположников марксизма. Это многих славный путь. О том, что мысль человечества этим не исчерпывается, я, пожалуй, знал, но основоположники, как мне тоже было известно, переработали это до меня, и мне не было смысла во всем копаться. Да и не готов я был к этому, и не было у мировой мысли ответа на мучившие меня вопросы. Они требовали не столько силы ума, сколько мужественной незамутненности сознания. Начал я, естественно, с самого, как я полагал, начала — с «Коммунистического манифеста» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Сначала в одиночку, а потом, как меня учили книжки о революционной борьбе, на которых я воспитывался, попытался организовать марксистский кружок. Не один, а со своими друзьями Люсиком и Гришей Шурманом (теперь он издал повесть под псевдонимом Шурмак). Мы тогда учились с Гришей в разных школах. С ним связаны мои первые шаги в, если можно так выразиться, детской литературной жизни. Следовательно, это было уже не в пятом классе — в пятом я еще в «свет» не выходил,— а позже.