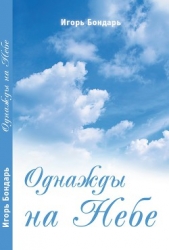В соблазнах кровавой эпохи

В соблазнах кровавой эпохи читать книгу онлайн
О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, - одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная... В этой книге Наум Коржавин - подробно и увлекательно - рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но тогда я был бесконечно далек от такого уразумения, хоть очень редко — даже в пору наибольшей ригористичности — относился к людям плохо исходя из принципов. Этой «беспринципности» я очень стыдился, но иначе не мог.
Разумеется, возникли эти мои мысли не тогда и не в связи с нашей временной соседкой. Хотя, как видел читатель, кое-какую информацию от нее усвоил и я. К тому времени меня уже бессознательно влекло ко всему, что противоречило официальным версиям происходящего. Не то чтоб я уже тогда «все понимал», совсем нет. Грубые детективные спектакли Вышинского и Шейнина еще поражали и мое воображение, но, по-видимому, незаметно для меня самого оскорбляли сознание. И все, что противоречило этому, вызывало мое жгучее любопытство.
Но все же реагировал я больше на атмосферу, чем на факты. Однако и факты накапливались.
Арестовали отца моего друга (собственно, и подружились мы после этого ареста — до этого иногда только стихи друг другу читали), нынешнего московского поэта Лазаря (Люсика) Шерешевского. Отец его был бухгалтером в обществе политкаторжан. До сих пор я полагал, что поэтому он и сгорел: когда все это общество возвращали в исходное состояние, за компанию прихватили и его. Теперь выяснилось, что все было еще проще — его имя, «сознаваясь» под пытками, назвал как имя сообщника в каком-то липовом деле арестованный раньше знакомый. Обошлось это ему дорого — полутонов тогда не признавали: «десять лет без права переписки». Мы тогда еще не знали, что это означает смерть, меня лично больше поразили десять лет. Люсику я сочувствовал уже сознательно. Однажды даже сопровождал его в приемную НКВД на Владимирской. Пока он писал заявление (без него, по-видимому, не принимали передач и не сообщали сведений), я смотрел по сторонам, видел лица родственников тех, кто уже попал под топор. Лица были как лица, только по-особому замкнутые. Рядом с нами что-то писала женщина с интеллигентным лицом. Взглянула понимающе на нас, улыбнулась, когда я что-то сказал Люсику. Здесь друг с другом не разговаривали. Потом Люсик понес то, что написал, к окошку и получил информацию. Кажется, окончательного решения по делу еще не было. Мы вышли. Помнится, была весна. Во всяком случае, день был светлым и нежным. Серый гранит фасада главного здания НКВД на другой стороне улицы выглядел внушительно и неприступно. Что тогда творилось в кабинетах за этими стенами, я еще не знал. Но от всего вместе осталось несколько притупленное ощущение безысходной беды, свирепствующей где-то рядом и меня, к счастью, обошедшей.
Проникновение в суть происходившего шло у меня не через эти впечатления. Они только приплюсовывались ко всему остальному — к тому, что мне тогда, как здесь неоднократно отмечалось, вместо «идей» предлагали для поклонения бессмыслицу и муляжи, полную прострацию. Сердце жаждало выхода.
Тогда-то, лет с двенадцати-тринадцати, я опять начал писать стихи. Не то чтобы всерьез (что такое поэзия, я не представлял по-прежнему), но и не просто из тщеславия, а для романтического самовыражения.
Перечитывая написанное выше, я испытываю некоторое смущение — уж слишком мудрым и самостоятельным я выгляжу, несмотря на все оговорки. Неужели это уступка обычному соблазну мемуариста — стремлению прихорошиться перед объективом, особенно если своя рука владыка? Вряд ли. Тем более я не так уж сильно люблю себя в детстве. И потом, цель этих мемуаров рассказать не о том, какой я был мудрый, а как путался в трех соснах.
В годы «перестройки» появилось много людей, утверждающих, что они «всегда все понимали». И хотя о большинстве из них до этого и слышно не было, я, как ни странно, отчасти верю их хвастовству — конечно, если исключить слово «все». «Все» в какой-то мере было понятно только «простым» людям (к которым отношу крестьян, торговцев, ремесленников и т. д.), понимавшим в наступившей жизни нечто существенное — ее крайнюю практическую несостоятельность, а часто и аморальность. Но к «комсомольцам двадцатых годов» (и тридцатых тоже), в том числе и к интеллигенции, сформировавшейся в это время, никакое «все», связанное с абсолютной системой ценностей, отношения не имеет. В лучшем случае, в хорошие минуты, мы понимали, что имеем дело с бессистемной абракадаброй, подменявшей официально провозглашаемую систему ценностей. Но то, что она тоже ложная, мы не понимали. О каком же «все» может идти речь, если этого, главного, непонимания мы в себе даже не подозревали!
Вероятно, многие могут вспомнить моменты, когда они кое о чем догадывались — ну, например, насчет процессов или что Сталин погубил и узурпировал революцию. Это теперь кажется не важным, а тогда, это был невероятный — дух захватывало — порыв и прорыв к правде. И в то же время все это лежало на поверхности. И поэтому для того, чтоб понять и не принять сталинщину, нужно было затратить гораздо меньше интеллектуальных усилий, чем на то, чтоб ее не понять и принять. Однако ситуация была такова, что многие не жалели усилий. Догадывались, но угаданное помнили недолго, заговаривали сами себя и забывали (а теперь забывают, что забывали).
Потому что Сталин, как большевики в начале двадцатых, сумел овладеть ходом жизни — верней, подменить его. И помимо страха перед репрессиями был еще страх идти одному против всей жизни, вовсе тогда не казавшейся изнутри бедной — особенно нам, молодым, другой жизни не знавшим. Кругом цвела молодость, находя, чем жить и для чего цвести, и одному идти даже не против всех, а просто не в ногу со всеми — в том числе с хорошими людьми — казалось стыдной обделенностью. Это и приводило меня к непоследовательности и падениям. Впрочем, об этом позже.
А пока я, как сказано выше, занимался романтическим самовыражением — писал стихи на уроках. В основном, как потом это называлось, на историко-революционные темы. О том, как боролись и умирали революционеры при «проклятом царизме» и героические комсомольцы во время гражданской войны. А также о том, как я сам буду бороться за мировую революцию и умру в боях за нее или от рук палачей-контрреволюционеров. Стихи были не только плохие (что естественно при такой направленной тематике), но и очень неумелые — даже в смысле стихосложения. Да и откуда им было быть другими — стихов я тогда, кроме попадавшихся случайно в учебниках и детских книжках, по-прежнему еще не читал, а с поэмами, если попадались (пушкинскими, например,— тогда как раз с помпой отмечалось столетие со дня его гибели), мирился как с затрудненным пересказом прозы, интересовавшей меня гораздо больше. Впрочем, и в прозе я тогда мало что понимал.
Но ведь я и не собирался становиться поэтом и вообще литератором. Свои стихи (я пытался писать и рассказы, но еще менее удачно) я рассматривал только как подспорье в своем будущем служении мировой революции. В чем будет состоять это служение и каким образом может ему способствовать мое нынешнее творчество, я представлял весьма туманно. Ясно только было, что оно не будет слишком скромным. Так я прожил третий, четвертый, пятый классы. В шестом началось нечто другое. Но пока это еще не началось, оторвемся ненадолго от художественной литературы.
Я очень мало рассказываю о младших классах. Ну хотя бы об учителях. В первом классе у нас был учителем Израиль Самойлович, как говорили — студент-химик. Был он человеком, кажется, добрым, но нервным. Помню только его узкое лицо и коричневый трикотажный свитер — тогда никто особо не модничал. Это именно он попросил моих родителей посылать меня в школу как можно реже. Со второго класса нас вела Антонина Дмитриевна, маленькая и добрая интеллигентная женщина с трудной, как мне теперь кажется, женской судьбой. Неинтеллигентные учительницы в больших городах тогда еще были редкостью — даже среди учителей младших классов. Мы ее любили и верили ей. Характерная деталь тех лет — я не знал, что Израиль Самойлович еврей, а Антонина Дмитриевна русская, хотя их имена и отчества говорят сами за себя.
Четвертый класс, как я уже рассказывал, начался для меня с переселения наших классов в 44-ю школу-новостройку. Детство кончалось — мы стояли на пороге отрочества. И вступили в него 1 сентября 1937 года, придя впервые в пятый класс. Началось оно для нас с бунта, главным устроителем коего был автор этих мемуаров. Надо сказать, что ко мне иногда прилипает репутация скандалиста, поскольку я, бывает, резко высказываю свое мнение. Но скандалов и вообще неприятностей людям я устраивать не люблю и не устраиваю. Хотел я быть скандалистом только в отрочестве — в подражание Маяковскому, которого я тогда чтил как возмутителя мещанского болота. Но это было чуть позже описываемых сейчас событий. Да и речь тут идет не о скандале, а скорей, как уже сказано, о бунте. Дата этого бунта говорит в данном случае только о том, что и на фоне гибельных событий, связанных в общем представлении с осенью тридцать седьмого года, тогдашние дети все равно были детьми, учились, переживали и принимали всерьез трепавшие их и досаждавшие и без того обескураженным взрослым бури переходного возраста, и это не имело почти никакого отношения к специфике этой даты. Хотя, по моим тогдашним представлениям, я только вступался за правду и дружбу, то есть, как юный пионер, вел себя вполне добродетельно. Как меня и учили.