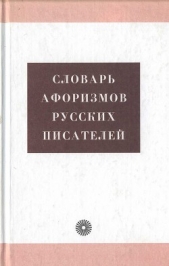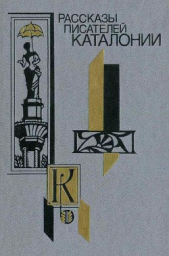Факт или вымысел? Антология: эссе, дневники, письма, воспоминания, афоризмы английских писателей

Факт или вымысел? Антология: эссе, дневники, письма, воспоминания, афоризмы английских писателей читать книгу онлайн
В Антологию вошли ранее не переводившиеся эссе и документальная проза прославленных английских писателей XVI–XX веков. Книгу открывают эссе и афоризмы блестящего мыслителя Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), современника королевы Елизаветы I, и завершает отрывок из путевой книги «Горькие лимоны» «последнего английского классика», нашего современника Лоренса Даррела (1912–1990). Все тексты снабжены обстоятельными комментариями, благодаря которым этот внушительный том может стать не просто увлекательным чтением, но и подспорьем для всех, кто изучает зарубежную литературу.
Комментарии А.Ю. Ливерганта даны в фигурных скобках {}, сноски - обычно перевод фраз - в прямоугольных [].
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Побывали на похоронах Джейн, приехали туда (куда-то на край света, где автобуса приходится ждать не меньше четверти часа), когда служба уже кончилась; с шумом вбежали в церковь, но народу было немного, да и люди в основном какие-то неказистые, вероятно, кузены и кузины с Севера. По-настоящему переживал только один человек: трясущийся подбородок, всклокоченная борода, глаза навыкате. Когда выдающиеся люди умирают, вдруг оказывается, что родственники у них совершенно неожиданные. Нанятые «даймлеры» следовали за гробом на расстоянии нескольких футов. Мы подошли к могиле; священник, ее знакомый, терпеливо ждал, пока соберутся скорбящие, а затем стал читать Библию — что-то очень красивое, разумное, после чего прочел наизусть: «Пребудьте во Мне…» Могильщик незаметно сунул ему в руку комок глины, он поломал его на три части и в нужный момент бросил комья в могилу. Будто подгадав, с веселым безразличием запела птица; хотелось думать, что Джейн бы понравилось. Затем к могиле подошли невзрачные двоюродные сестры, каждая с большим букетом примулы, и побросали цветы в могилу. Подошли и мы и воззрились на гроб на дне могилы, показавшейся мне какой-то непристойно глубокой. Л. с трудом сдерживал слезы, я же почти ничего не чувствовала — только красоту «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные», и, как всегда неспособность верить притупила мои чувства, огорчила меня. Кто такой «Бог» и что такое «Милость Христова»? И что до них Джейн?
Вторник, 24 апреля
Ждала Гамбо (Марджори Стрэчи). Как же я ненавижу ждать! Не могу усидеть на месте, не могу читать, думать, поэтому пишу — для чего еще нужен дневник! А должна была бы сидеть внизу и перепечатывать «О.» Чтобы успеть к первому июня, должна печатать по 10 страниц в день. Что ж, люблю вставить шею в ярмо. Вернулась с победой: купила платье и пальто всего за 5 фунтов 10 шиллингов. Продавщице надо смотреть прямо в глаза, испытующе, никакой искательности, говорить твердо, требовать зеркало и следить за реакцией. И тогда под слоем пудры и тушью они раскисают. Сегодня прелестный, свежий летний день, колючий зимний ветер унесся к себе домой в Арктику. Вчера вечером читала «Отелло», какой мощный, все сокрушающий на своем пути поток слов. Пожалуй, слишком много слов, сказала бы я, рецензируй я эту пьесу для «Таймс». Слов много там, где спадает напряжение, в великих же сценах их ровно столько, сколько надо. Ум тонет в словах, когда его не понуждают: я имею в виду, ум величайшего мастера слов, который пишет одной рукой. Уж он-то на слова не скупится — ограничивают себя авторы менее значительные. Как всегда, под большим впечатлением от Ш-ра. А вот мой ум в настоящее время к словам — английским словам — невосприимчив; они бьют меня, сильно бьют, и я смотрю, как они отлетают от меня и набрасываются снова. Уже месяц читаю только по-французски. У меня идея написать статью о французском языке; что мы о нем знаем.
Пятница, 4 мая
Прежде чем в этот прекрасный летний день отправиться пить чай с мисс Дженкинс, надо описать премию «Фемина». Иду из чувства долга — не обижать же юное дарование. Но сомнений нет: буду с собой бороться. Зато день великолепен.
Теперь — премия. Церемония — тягостный, бредовый ужас от начала до конца. Тупая формальность. Хью Уолпол {735} говорил, как ему не нравятся мои книги, а вернее, как он боится за свои. Малютка мисс Робинс {736} вертела головкой, точно малиновка. «Хорошо помню вашу матушку — ангельский лик и в то же время самая законченная женщина на свете. Некогда бывала у меня, в моей квартире (помнится, жарким летним днем). Никогда не говорила по душам. Скажет, бывало, нечто такое неожиданное, нечто настолько не вяжущееся с ее ангельским ликом, что лик этот мог показаться дьявольским». Это мне понравилось; все же остальное большого впечатления не произвело. А потом меня вдруг охватил ужас, что в своем дешевом черном платье я выгляжу чудовищно. Никак не могу побороть в себе этот комплекс. Каждое утро просыпаюсь чуть свет от страха; да и слава становится приевшейся и досадной. Она ничего не значит, а времени отнимает много. Сплошные американцы. Кроли, Гейдж; предложения…
Четверг, 31 мая
Нет, Пруста сейчас читать не могу… Леонард читает «Орландо», завтра книга уходит в печать. <…>
Л. воспринял «О.» серьезнее, чем я ожидала. Считает, что в каком-то отношении повесть лучше, чем «На маяк», что она о более интересных вещах, ближе к жизни, значительнее. Все дело в том, думаю, что начала я «О.» как шутку, а продолжала всерьез. Отсюда отсутствие единства. Он говорит, что повесть очень необычна. Во всяком случае, я рада, что в этот раз не написала «роман», и, очень надеюсь, впредь меня в этом обвинять не придется. Теперь хочу сочинить разумную, взвешенную критическую статью, книгу о литературе, какое-нибудь эссе (но не о Толстом для «Таймс»). <…> Хочется прикрыть крышку люка, чтобы через него проникаю поменьше литературных идей. Может, в следующий раз что-нибудь абстрактно-поэтическое — не знаю. Мне больше по душе биографии живых людей. Приходит в голову «Оттолайн» — но нет. И я должна разорвать эту рукопись, написать побольше заметок и выйти, наконец, в мир, что я завтра и сделаю, отправившись прокатывать уши.
Среда, 20 июня
Так устала от «Орландо», что ничего писать не в состоянии. За неделю прочла корректуру и не в силах выжать из себя ни единой фразы. Ненавижу собственное многословие. Почему надо постоянно метать слова? К тому же, я почти утратила способность к чтению. Когда по пять, шесть, а то и семь часов кряду читаешь корректуру, да еще пописываешь туда-сюда, навык чтения теряется почти безвозвратно. После ужина раскрыла Пруста и тут же закрыла. Это — худшее время. Жить не хочется. Кажется, что ничего другого не остается, как покончить с собой. Все скучно и бессмысленно. Поглядим, удастся ли мне воскреснуть. Надо бы что-то почитать — скажем, жизнеописание Гете. Ну, а потом отправлюсь с визитами.
Среда, 8 августа
Стоило Эдди уйти, как я подумала: почему человеческое общение такое неопределенное, невнятное? Почему после его ухода у меня в руке не осталась небольшая круглая вещица размером, скажем, с горошину? Нечто такое, что кладешь в коробочку, чем потом любуешься? От нас так мало остается. А между тем, все люди, которые нас окружают, — это материал, не воспроизводимый, создающийся всего один раз. Связи, которые между нами возникают, неповторимы, единственны в своем роде. Если бы, предположим, Эдди сегодня вечером убили, со мной бы ничего особенного не произошло, — его же сущность никогда бы больше не повторилась. Наша встреча… но мысль эта, увы, постоянно ускользает, как бы часто она не приходила на ум. Как мало значат наши связи, а ведь они так важны; в нем, во мне реальность бесконечно богата, необычайно красочна. Но если бы сегодня вечером умерла я, а не он, с ним бы тоже ничего не произошло. Эта сторона нашей жизни довольно призрачна. Я так важна для себя и при этом не представляю никакой ценности для других; для них я не более чем тень, мелькнувшая в дюнах. Я обманываю себя, думая, будто я важна для других людей, оттого-то я и кажусь себе такой живой, яркой. На самом же деле, я ровным счетом ничего не значу, а потому моя живость во многом нереальна, призрачна. По словам Эдди, он постоянно думает: «Какое впечатление я произвожу?», и от этого находится в приподнятом настроении. В действительности же, он, скорее всего, не производит никакого впечатления и в таком возбуждении пребывает совершенно напрасно.
На самом-то деле, меня посещали тысячи других мыслей; его присутствие было, наверно, не более чем светом — каким-то тусклым, серо-зеленым светом, — упавшим на поверхность моего рассудка; мысли же тем временем, как всегда, лихорадочно неслись, перегоняя друг друга. Мысли о моих литературных трудах, о старости, о покупке поля (мы купили его сегодня утром), о том, как шумят дети, и не купить ли Саутиз. Все это происходило, так сказать, под спудом. Вместе с тем его присутствие каким-то образом сказывалось на потоке подспудной жизни. Мне все время приходилось думать о том, что будет дальше. О том, как мне прорваться в свою другую жизнь, которая находилась всего-то в шести дюймах от моей нынешней, в шезлонге, в саду. Вот почему я не могла думать так глубоко и быстро, как думаю сейчас, когда Эдди находится на пути в Танбридж-Уэллз. И то, что сейчас осталось от Эдди, в каком-то смысле более осязаемо, хотя и более неуловимо, он весь сосредоточился в моем уме, весь, каким я его себе представляю… теперь он нечто вроде пейзажа, в который сам же отлично вписался, нечто вроде произведения искусства для себя Самого.