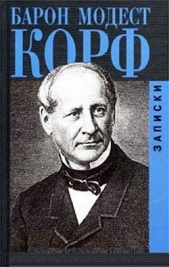Записки старого петербуржца
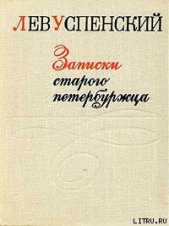
Записки старого петербуржца читать книгу онлайн
Книга известного ленинградского писателя, блестящего знатока и летописца города на Неве, доносит до нас живые и яркие картины жизни Петербурга в начале XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Две тысячи двести абсолютных сверстников! Вот это да! А много ли среди них пришлось на Санкт-Петербург? С этим дело оказалось проще: данные по столице были более точными. В Санкт-Петербурге в среду 27 января 1900 года закричали «ува-ува», засучили ножками, стали беззубыми ртами ловить воздух первой своей зимы сто пятьдесят семь младенцев, и я в том числе.
Остановиться бы мне на этих приятных сведениях: вон сколько у меня их, моих «земляков во времени». Но, увы, я человек дотошный. И пало мне тогда на ум задать следующий вопрос: а сегодня, в тысяча девятьсот сороковом году, многие ли из них будут праздновать, в тот же день, что и я, свое сорокалетие? Если бы оказалось возможным пригласить всех на такое торжество, сколько бы нас собралось?
Знаете ли вы, что в статистике и демографии именуется «таблицами дожития»?
Как только мы, «девятисотники», открыли глаза в новом для нас мире (да нет, я путаю: задолго до того, как это случилось!), статистика уже составила на нас всех эти чертовы, отдающие прямо-таки колдовством и черной магией таблицы.
В них было заранее рассчитано, скольким из нас, новорожденных того года, суждено дожить до семи, скольким до двадцати, скольким до семидесяти лет. Не кому из нас, сия тайна велика есть, — скольким из нас! Скольким абстрактным единицам — людям, года рождения 1900-го.
Эти таблицы существовали. Они были вычислены к девятисотому году, как вычисляют их сегодня на девятьсот семьдесят первый год, — исходя из представлений о нормальном пути развития дальнейшей истории. Не беря в расчет непредвидимых обстоятельств — великих наводнений, катастрофических землетрясений, небывалых неурожаев, пришествия марсиан или столкновения с кометой. Не ориентируясь на глад, мор, трус [2] и казни египетские.
Так вот, при этом (при этих!) обязательном ограничении, таблицы утверждали, что, — если все пойдет нормально и спокойно! — из двух тысяч двухсот моих абсолютных сверстников к январю девятьсот первого года на Земле останется только две трети — тысяча четыреста самых живучих малышей. Почему такой ужас? Да просто таков был в тогдашней России процент детской смертности по первому году.
Ничуть не менее страшным для нас был и второй год. К январю девятьсот второго от нас должно было сохраниться не более восьмисот или девятисот душ… Знай мы это — подождали бы, пожалуй, родиться!
Правда, дальше дело обещало идти несколько спокойнее: чудовищной была именно смертность в первые Два года. Но все-таки, если в мире все пойдет спокойно, если не посетит Россию чума или холера, если не произойдет Мамаева нашествия и не повторится Смутное время, — тогда, обещали таблицы, сотни две или три ветеранов из тех двух тысяч будут еще процветать к сороковому году на всем пространстве Земли Русской. А петербуржцы? Да стоит ли о них говорить? Два-три человека; может быть — пяток; но вряд ли, вряд ли!..
Я задавал свои вопросы статистике в том самом сороковом году. И за спинами моего поколения были уже и русско-японская война, и революция пятого года, и виселицы реакции, и ненастье первой мировой, и пламя войны гражданской, и голод двадцать первого, и…
Так сколько же нас могло остаться?
Когда я взвалил себе на плечи груз всех этих странных вычислений и исследований, мною руководило не праздное любопытство. И конечно, я имел в виду вовсе не «единицу», не Льва Успенского, не самого себя. Я искал путей к биографии времени, думал найти какую-то новую лазейку к его сердцевине. Но ведь человеческое историческое время, как организм из клеток, складывается из единичных людских судеб…
Классом ниже меня в Выборгском восьмиклассном коммерческом училище Петербурга — Финский переулок, дом 5 — учился маленький щуплый мальчик. Я назову его тут Фимой Атласом.
Этот Фима, сын аптекаря с Большого Сампсониевского проспекта, был совершенно как все, за исключением двух свойств — основного и вытекающего.
Во-первых, его облизала собака. Во-вторых, он был единственным на нашем горизонте лысым мальчиком.
Собака лизнула его в темя, по голове пошли фурункулы, их облучили рентгеном, и Фима Атлас облысел, как колено. Мы, остальные мальчишки, остро завидовали ему: мы-то были обыкновенными, волосатыми…
Никаких иных особых примет или достоинств у него не было.
А в тридцать девятом году до меня дошли сведения о Фиме. Господин Ефим Атлас был теперь миллионером, крупнейшим гуртовщиком скота во Французском Конго. Девятнадцатый год — деникинский юг России. Девятьсот двадцатый год — Принцевы острова вместе с Врангелем. Девятьсот двадцать второй — Бизерта, потом Конго, и служба у тамошнего плантатора, и брак с плантаторской дочерью, и…
Вот вам и лысый мальчик: граф Калиостро, всесветный авантюрист какой-то!
Уже в гимназии Мая на Васильевском процветал другой юнец, классом старше меня, скажем Петя Васильев; отец у него был видным инженером-путейцем.
И этот длинный и длиннолицый подросток тоже никакими выдающимися качествами не обладал: так, все на троечку. Была у него только одна выделявшая его из общего ряда привычка. Завидев на старшем, третьем, этаже школы случайно вбежавшего туда младшеклассника, он сладострастно жмурился, на цыпочках подкрадывался к этому малышу, осторожненько брал нарушителя школьной иерархии за локоток и затем, всю перемену ни на миг не отпуская его от себя, не давая вернуться в родной первый этаж, где играли в кошки-мышки, в пятну, где была жизнь, — медленно похаживая с ним кругами по старшему залу, ведя душеспасительное собеседование:
— А скажи-ка мне, Кокочка (или там — Димочка): ты папеньку своего слушаешься? Очень хорошо, милый мальчик; весьма похвально. А маменьку свою ты также слушаешься? Отлично, отлично, дорогое дитя! А повести ты, часом, не пишешь? И хорошо делаешь. Как это «отпустите»? Куда это тебя отпустить? Николай Васильевич Гоголь повести писал, — так знаешь, чем кончил? Э, куда, куда?!. Мне с тобой еще о многом поговорить надо: пойдем, пойдем!
Вот так; все остальное в норме.
Лет через двадцать после этого, в конце тридцатых годов, выйдя из Пассажа, я нос к носу столкнулся с отцом Пети; в то время этот отец был в Наркомате путей сообщения на весьма высоком посту.
Память некоторых людей на лица удивительна. Товарищ Васильев узнал в почти сорокалетнем гражданине гимназиста, раз или два бывавшего в 1916 году у его сына. Мы поздоровались. Он проявил приязнь и радость, вспомнил давние времена, вспомнил гимназию Мая, вспомнил моего отца, но ни единым словом не помянул своего сына. Точно его у него и не было.
Удивленный, я сообщил об этой странности одному своему другу, однокласснику Пети Васильева, — в то время уже большому ученому, математику — Янчевскому.
— Ну еще бы! — пожал тот плечами. — Конечно не станет он про него рассказывать, чего захотел!
Я не видел этого чудачливого Петю вот уже лет двадцать, с 1914 года. Кто знал, что из него могло получиться?
— А что, — спросил я, — оболтус вышел?
— Оболтус? Оболтус было бы полбеды…
— Ну, что ты говоришь? Совсем свихнулся?
— Свихнулся бы — папаша тебе так бы и сказал…
— Погоди, но — что же тогда?
— Приходи ко мне завтра, я тебе покажу что. Сам увидишь.
Словом, заинтересовал меня до крайности.
У себя дома математик Янчевский полез в ящик письменного стола и извлек оттуда желтую с белым книжечку американского журнала «National geographic Magazine» — он уже и тогда выходил с грубоватыми, но яркими, цветными фотоиллюстрациями.
— Вот, вникни!
На фото географического ежемесячника была изображена песчаная площадь в каком-то индийском селении. Высились пальмы, ширилось могучее дерево — жужубовое или там панданус. Посреди тлели угли костра; вокруг с полдюжины людей в тропических шлемах целились объективами фотокамер, а в центре, на горячих угольях, в задумчивой позе не то сидел, не то даже полулежал тощий человек в одной набедренной повязке, устремив очи горе.