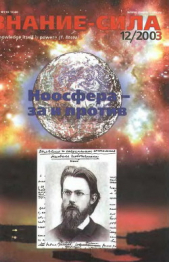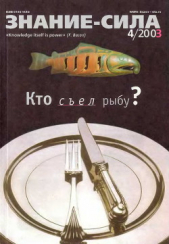Знание-сила, 2003 № 05 (911)

Знание-сила, 2003 № 05 (911) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В такие минуты понимаешь, как они могут мешать. И почему от них отказался Полунин. Мимика и жест часто богаче слов и уж, конечно, многозначней, разнообразней в оттенках, недоговоренности, нюансах, в том, что дает пищу воображению и уму, что возвращает к естеству, минуя переводчика, — слово.
Слово произнесенное — материально, оно фиксирует, подчас завершает. «Слово не воробей: вылетит — не поймаешь». Есть книжка известного итальянского художника и писателя Карло Леви «Слова — камни». Слова, бывает, страшно произносить, и ищешь лицо, чтобы мимикой, улыбкой смягчить их действие. Мимика, жест — добрее, они оставляют надежду. И это — лишь одна из причин, что может заставить большого артиста предпочесть жест слову.
Есть и другие. Уважаемый ученый, философ Александр Афанасьевич Потебня (1835 — 1891) давным-давно писал (немного сокращаю его длинный пассаж): «Слово... первоначально есть символ, идеал и имеет все свойства художественного произведения. Но с течением времени оно теряет эти свойства... И кончает тем, что перестает быть собою по мере достижения своей ближайшей цели, по мере увеличения в говорящем и слышащем массы мыслей, высказываемых образами... То есть от своего собственного развития слово лишается своей конкретности и образности».


Выступление группы «Лицедеев», Фото Вероники Виал
Понятно:
«Слова у нас до важного самого
В привычку входят, ветшают, как платья».
Поэт сказал то же самое, по существу, лишь короче и образнее. Оба знают о таком свойстве слова — ветшать, стареть, терять емкость, смысл. Язык умер бы (так и бывало, например, латынь, древнерусский и тысячи других), не будь другого его свойства — меняться, обновляться, обогащаться. («Кончай грузить, ты меня изнемогаешь». Это мне — дети).
Но жест, мимика — древнее языка, и вот загадка — они не ветшают и не стареют! Тем более не умирают, лишь обретают все новые оттенки и смыслы, которые бережно собирают, любовно шлифуют, находя все новые грани, мимы.
У Полунина же еще выбор пантомимы и отказ от слова был связан с особенностями времени, в котором мы все и он тоже жили, когда говорить разрешалось далеко, очень далеко не все.
Вот он вышел из Люксембургского сада (сколько раз я выходила отсюда!) Шаг размашистый, широкий; легкий плащ раздувает ветер — то ли парус, то ли крылья? Как поразительно похож он на Бродского! И ведь тоже — Поэт. Он идет по бульвару Сен Мишель. В октябре в Париже тепло, жары уже нет — ярче небо, резче тени от листьев и острее звуки.
В Сорбонне — перемена, и бульвар наполняется молодежью, сразу становится шумно, празднично. Он замедляет шаг. В воздухе разливаются чудные запахи кофе и поджаренного хлеба, где-то уже подгорели крепы (блины) и чуть- чуть потянуло подгоревшим тестом. Слышны обрывки музыки, смех и щебетанье — быстрый говор, когда все хотят сказать все сразу. Он улыбается, впитывает, чтобы забрать с собой.
Удивительное слияние движений, запахов, звуков, красок и линий в эту минуту создает счастливую гармонию — ту полноту жизни, которая долго потом будет питать и поддерживать. Его и его героя тоже.
Его Асисяй — человек несчастный, трогательный, ранимый, но какой же он счастливый! Он отважный, честный и наивный. Он теряет и находит, обманывается и верит, падает и подымается, он радуется малости и плачет над вымыслом. Он одинок, но он — это целая вселенная! Можно ли думать об одиночестве? Только в очень редкие мгновенья печаль одолевает его. Вспомним: вешалка, на ней женское пальто, шляпка, и его рука, продетая в женский рукав, становится ее рукой. Она поправляет его кашне, стряхивает невидимые крошки. В ее жесте не просто забота, а нечто гораздо большее — право на нее и то, что всегда стоит за этим правом, — близость, быть может, любовь, нежность. И он... Как сказать об этом его движении? В котором столько напрасной страстной надежды и веры, что это — правда, что это — отдых и — конец одиночества. Словами нельзя. Только жестом Полунина.
Бесконечно права была Цветаева, когда говорила, что если человека переполняют чувства, он либо опускает, либо закрывает, либо подымает к небу глаза. Жест естественнее и сильнее слов.
А если ты улыбку ждешь — постои!
Я улыбнусь. Улыбка над собой
Могильной долговечней кровли
И легче дыма над печной трубой.
И. Бродский. «Остановка в пустыне»
Специалисты спорят: кто он — Мим, Клоун или Эксцентрик? Для них это важно. А для Полунина, думаю, нет. Масштабы его таланта и воображения таковы, что не помещаются в рамках жанра, и потому он создает свой не жанр, нет, а особый образ, принадлежащий, безусловно, смеховой культуре. Но если это так, то и сама смеховая культура в его лице обретает нечто новое — революционера, созидателя и обогатителя одновременно.
Тут совершенно необходимо сказать два слова о смеховой культуре. Всего два, потому что тема эта неисчерпаема. Смеховая культура имеет огромную и насыщенную историю, по-настоящему еще не написанную. Возможно, именно способность человека к юмору, к самоиронии, насмешке над собой прежде всего и делает его состоявшимся, то есть свободным, без комплексов, тем, кто может вдруг посмотреть на себя со стороны и рассмеяться.
В Средние века, даже в самые жестокие времена, времена опричнины Грозного, например, находились смельчаки, которые дерзали бросить упрек в лицо тирана, обвинить его в жестокости и несправедливости публично. Но для этого им нужно было надеть маску, личину и прирастить ее к лицу — стать юродивым или шутом, клоуном. И быть им уже до конца жизни, ибо клоун — не профессия, а судьба Нужно было прикинуться дураком, перестать быть самим собой, отказаться от себя — такова была цена. А с дурака какой спрос? Дурак он и есть дурак, мало ли что наплетет в своей дурости. Вот тогда сколько угодно можно было потешаться прежде всего над собой, над своими злоключениями, неудачами. Смеясь, изображать свои несчастья, «валять дурака», паясничать, живописуя несправедливость, жестокость, глупость. В смехе все «проходило», и дураку все сходило с рук.
Но дурак умен, он знает о мире больше, чем его современники. Самое парадоксальное, что и остальные, и сам царь прежде всего понимали, что дурак — не дурак вовсе. Во все времена шуты были приближенными царских особ, и только им было позволено говорить то, за что другие лишались головы. Но такова была игра. Она позволяла хоть на время восстановить равновесие, в котором, видно, нуждается самая испорченная душа, если говорить о тиране, не говоря о всех других, для которых смех — отдых, релаксация, психологическая передышка. Ибо смех, разрушая дистанцию, сносил социальные преграды, свободно и фамильярно разглядывая человека, выворачивая наизнанку, разоблачая все его хитрости и непотребства, раздевая догола. И все смеялись, гомерически хохотали. До слез, до икоты. Над собой смеялись. И наступал катарсис, гнойный нарыв вскрывался. Смех очищал и просветлял, уравнивая, снимая напряжение. И возврашая человечность.
Тут я вспоминаю о транспарантах прежних лет: «Еж — санитар леса». И вполне серьезно думаю о клоунах как врачевателях общества.
«Маски, — писал Михаил Михайлович Бахтин, — могут проделать любую судьбу, фигурировать в любых положениях, но сами они никогда не исчерпываются и всегда сохраняют над любым положением и любой судьбой свой веселый избыток, свое несложное, но неисчерпаемое человеческое лицо».
«Неисчерпаемое человеческое лицо» я хотела бы отнести непосредственно к Полунину, желтому клоуну (есть еще клоуны белые). Как и все лучшие клоуны до него, он исследует человека, его внутренний мир, но пользуется при этом своей, полунинской оптикой. А именно от этой оптики зависит, приблизим ли мы звезды, увидим ли пыльцу на крыльях бабочки или расширенные страхом зрачки ребенка — в прямом и переносном смысле.