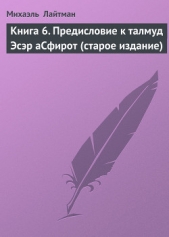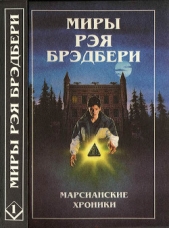Кротовые норы
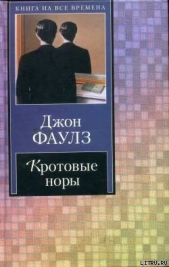
Кротовые норы читать книгу онлайн
«Кротовые норы» – сборник автокритических эссе Джона Фаулза, посвященный его известнейшим романам и объяснению самых сложных и неоднозначных моментов, а также выстраивающий «Волхва», «Мантиссу», «Коллекционера» и «Дэниела Мартина» в единое концептуальное повествование.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Страшнее всего, видимо, было, когда кораблекрушение случалось ночью или в тумане и беда обрушивалась как снег на голову, словно бы из ниоткуда. Каждый раз история была практически одна и та же: крик впередсмотрящего: «Впереди опасность!», отчаянные команды рулевому, дикая суматоха в попытках поставить (или, наоборот, спустить) паруса, поймать ветер (кстати, именно по этой причине многие парусники в подобных обстоятельствах сперва ударялись о скалы кормой, ибо, пытаясь выброситься на берег, не могли вовремя остановиться и лишь беспомощно скользили назад, в море). Иногда в таких случаях людей спасали мачты, ломаясь при ударе о берег и образовывая нечто вроде перекидных мостков, хотя и весьма ненадежных. Знакомая прелюдия к грядущей катастрофе, сильная буря позволяла по крайней мере команде и пассажирам приготовиться – как психологически, так и профессионально – к самому худшему.
У западных берегов Корнуолла подобные сражения с морем продолжались порой несколько дней; шторм то относил судно от берега, то грозил выбросить его на скалы, и команде приходилось отчаянно сражаться с волнами и ветром. Капитан, попав в подобную ловушку, чаще всего приказывал спустить все паруса и срубить основные мачты, дабы уменьшить сопротивление ветру, а затем старался закрепиться с помощью якоря; однако старые якорные канаты не были достаточно прочными и часто рвались. Когда наступал решающий момент, капитану оставалось только попытаться выбросить судно на берег или причалить его к любому, даже самому ненадежному утесу. Очень часто корабль при подобных попытках ударялся о рифы и давал течь или же, чего боялись больше всего, заваливался на бок и переворачивался. В 1807 году близ Лоу-Бар именно так и перевернулся, потеряв все свои якоря, фрегат «Энсон», и сто двадцать человек утонули совсем рядом с берегом.
Я уже упоминал, что тогдашние навигационные приборы оставляли желать лучшего, так что действовать приходилось буквально наугад. Ситуация несколько улучшилась, когда в 1772 году стал доступен вполне точный хронометр, однако и в Викторианскую эпоху многие шкиперы, к сожалению, практически не умели пользоваться даже секстантом. Серьезную проблему составляло и общее состояние судов. До принятия Акта о состоянии торговых судов, автором которого был Сэмюэл Плимсолл 412, суда очень часто выходили в море перегруженными до предела да еще и с недоукомплектованной командой и гнилыми шпангоутами. Такие суда моряки прозвали «плавучими гробами». На подветренном берегу или в бурном море они даже слишком часто оправдывали это прозвище – на что, собственно, их хитрые владельцы, заблаговременно застраховавшие свое имущество, и надеялись. Подобная чудовищная практика была делом обычным, и Плимсолл достоин памяти не только за установленную им грузовую ватерлинию, но и за многое другое. Первые пароходы тоже были ненамного безопаснее парусников. Многие из них оказывались непропорционально маломощными в соотношении со своей величиной и в бурном море быстро становились неуправляемыми. Кроме того, паровые котлы на них имели отвратительную привычку взрываться при сколько-нибудь повышенной (или попросту настоящей) нагрузке.
Не существовало в XIX веке и определенной меры благополучия моряка Как и в случае с мародерами, тут вполне определенно просматривается «вина обстоятельств»: мизерное жалованье, грабительская политика лавочников-спекулянтов, жестокость боцманов и шкиперов. Однако низкое качество команд, с которыми обычно приходилось выходить в море капитану, объяснялось не только этим. Один из лучших, ибо написан исключительно ясно и просто, отчетов о кораблекрушениях этой эпохи – отчет Томаса Каббина, весьма опытного капитана крепкого торгового судна «Серика». Однажды, в 1868 году, он попал в шторм близ острова Маврикий. И незадолго до того, как людям пришлось покинуть корабль, команда, по сути дела, подняла мятеж. Зачинщики попытались пробраться в трюм, где находился груз спиртного. Матросы отказывались далее откачивать насосами воду из трюма. «Нечего нам приказывать, все мы теперь равны перед Господом!» – заявил один из них. И все же следует отметить, что за исключением корабельного кока (а камбуз – вечное средоточие всяческих сплетен и смуты) команда у Томаса Каббина была еще далеко не самой плохой; в целом они, похоже, были просто деморализованы штормом и изначально страдали отсутствием должной дисциплины, а не по-настоящему готовы к мятежу.
В кораблекрушении – если, разумеется, наблюдать его с суши – всегда есть значительный элемент поэзии и трагедии, но ни один моряк не позволил бы мне даже предположить вслух что-либо подобное, а тем более заявить, что суть этого страшного события – развлечение аудитории, ибо суть этой катастрофы была и есть в том, что она приносит невероятные страдания людям: ужас и отчаяние тонущим, невыносимые мучения оставшимся в живых. Кораблекрушение – это также храбрость и мужество спасателей. Мы никогда не должны забывать об этом! И все же… сейчас мне хотелось бы «нырнуть» в более спокойные, хотя, может быть, и более глубокие и темные воды: поговорить о том, почему зрелище кораблекрушения всегда привлекает столько зрителей. Почему, короче говоря, буквально в каждом из нас сидит что-то от мародеров Корнуолла.
Наше личное отношение к общей беде, к единовременной гибели множества других людей, можно было бы рассматривать как чисто гуманитарное только с точки зрения человека в высшей степени оптимистично воспринимающего человеческую природу; мне не хотелось бы называть подобное отношение патологическим или даже просто нездоровым. Существует христианская позиция: мы должны испытывать жалость к невинным жертвам. Существует позиция Аристотеля: увидев чужую трагедию, мы чувствуем себя очистившимися и становимся немного лучше. Следуя этим путем, мы в итоге доберемся и до мнения циника: людской интерес к чужой трагедии вызван простым schadenfreude (то есть злорадством), а заодно и станет немного легче в плане перенаселенности нашей планеты. Но я бы, пожалуй, почти с уверенностью сказал, что основная реакция такова: слава Богу, что это случилось не со мной! Иными словами, мы извлекаем из несчастья, случившегося с другими людьми, некое жизненно важное ощущение своего личного спасения, ибо сами остались живы; а также – ощущение, хотя и весьма невнятное, что нас окружает некий метафизический океан случайностей, в котором мы обречены плыть на всех парусах.
Возможно, не следовало бы делать различий между катастрофами на железной дороге, в воздухе, в автомобильных пробках и т.п., которые могут случиться с любым путешественником; и все же есть нечто совершенно особенное в том, что касается кораблекрушений, и, по-моему, не просто потому, что агония погибающего корабля длится дольше и имеет обычно более сложные последствия, чем гибель на суше или в воздухе. Во-первых, море вообще представляется человеку не таким уж жадным чудовищем. Способность людей выживать в морских водах, несмотря даже на весьма неблагоприятные условия, – это нечто весьма странное и не поддающееся никаким расчетам. Например, очень многие, вроде бы утонувшие, люди умудрялись в итоге выползти на берег или были случайно подобраны, скажем, какой-нибудь рыбачьей лодчонкой и объявлялись несколько недель спустя, когда все давно уже считали их лежащими на дне морском. Но что еще важнее – по крайней мере для нас, «зрителей», – так это дискретность демонстрации морем своего милосердия, что, на мой взгляд, безусловно, является примером эмоционального символизма.
Это утверждение проистекает из двух вещей: особой природы моря и особой природы морского судна. Ни одна из других стихий не обросла в нашем восприятии столькими значимыми мифопоэтическими слоями, столькими архетипическими значениями, не обладает такими антропоморфными характеристиками, как море. Море способно, например, «иметь настроение» и, безусловно, имеет пол. Это великий источник жизни, это вселенская кормушка, это чрево, вагина, то, что не только порождает жизнь, но и приносит удовольствие, это и самая нежная и ласковая мать на свете, и самая соблазнительная продажная девка, и самая очаровательно-вероломная вертихвостка. Море соединяет в себе черты всех типов женщин, а также – все мужские характеры на свете. Море может быть нежным и благородным, даже утонченным, или мужественным и энергичным; море способно проявить куда большую жестокость, чем самый злобный правитель-садист, когда-либо правивший в мире. («Я верю Библии, – сказал как-то лорду Фишеру 413один старый моряк, – потому что там в описании рая море даже не упоминается».) Так случилось, что дом мой стоит прямо над морем; я вижу море каждый день, я слышу его шум каждую ночь. Мне неприятно, когда оно сердится, но, как я заметил, большая часть горожан, а также жителей внутренних районов страны просто в восторг приходят, когда море штормит. Штормы и ураганы, видимо, вызывают у них некое веселое возбуждение: гром и молнии, мокрая галька на берегу, фонтаны водяных брызг и пены – все это пробуждает в их душах охотничий азарт, ни с чем не сравнимую вспышку чувств, родственную оргазму.