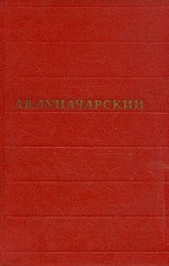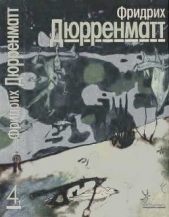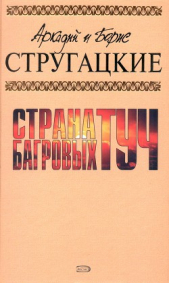Том 2. Советская литература
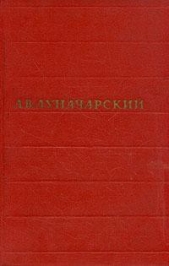
Том 2. Советская литература читать книгу онлайн
Во второй том вошли статьи, доклады, речи Луначарского о советской литературе.
Статьи эти не однажды переиздавались, входили в различные сборники. Сравнительно меньше известны сегодняшнему читателю его многочисленные статьи о советской литературе, так как в большей своей части они долгое время оставались затерянными в старых журналах, газетах, книгах. Между тем Луначарский много внимания уделял литературной современности и играл видную роль в развитии советской литературы не только как авторитетный критик и теоретик, участник всех основных литературных споров и дискуссий, но и как первый нарком просвещения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Остановлюсь еще на самом ярком из произведений Яковлева, таком, которое безусловно ставит его в самые передние ряды современных писателей, на замечательных «Повольниках».
В этом глубоком произведении, основанном на прекрасном знании народной жизни, захватывающе изображены те внутренние омуты, те буруны своеволия, которые образовались в некоторых глубинах задавленного русского народа. Эти залежи клокочущей лавы, которая кипела под гранитами самодержавного порядка, от времени до времени взрывались извержениями. С замечательной глубиной показано, как слепые стихии бунтарской разбойничьей народной силы влились в революцию, какова была их вредная ив то же время горькая судьба, какова была несомненная польза, принесенная этим взрывчатым веществом в годины революции, и как силы эти должны были прийти непременно в столкновение со все более дисциплинированными, со все более организованными силами, централизовавшимися вокруг иного очага, не вокруг дерзостного кабака и кровавого хулиганства, а вокруг завода и партийного кружка. По своей социальной значительности «Повольники», на мой взгляд, даже выше «Барсуков» Леонова, хотя Леонов свое столкновение взял в более широких плоскостях соприкосновения противоречивых тенденций революции.
Укажу еще, что в нескольких рассказах Яковлев чрезвычайно прямо и остро ставит половую проблему, как раз с тех самых точек зрения, которые сейчас волнуют нашу передовую общественность.
Теперь, когда читатель прочтет все томы полного собрания сочинений Яковлева, он, конечно, убедится, что имеет в его лице одного из самых живых, глубоких, свободных и оригинальных наблюдателей и изобразителей нашей жизни.
Правда, он нигде не найдет у него выводов, он нигде не найдет даже такой обработки материала, где выводы напрашивались бы сами собою, за исключением разве общего вывода, что жизнь течет, и течет к лучшему. Но зато Яковлев дает массу материала, над которым надо подумать и из которого вы, читатели, уже сами сумеете сделать выводы, если вы достаточно вооружены для того, чтобы постигнуть жизнь во всем ее разнообразии, вводя ее в рамки вашего целостного миросозерцания.
Фурманов *
Только общий мажорный тонус нашего движения, только тот боевой марш, в котором мы движемся вперед к победе, хотя и теряем на каждом шагу товарищей, может развеять острую тоску, навеваемую на каждого из нас расходившейся по нашим шеренгам смертью.
Беспрестанно раздается похоронный набат по какому-нибудь из товарищей.
Худо то, что смерть не щадит и молодых. Я прямо с каким-то ужасом узнал о смерти Фурманова.
Для меня он был олицетворением кипящей молодости, он был для меня каким-то стройным, сочным, молодым деревом в саду нашей новой культуры.
Мне казалось, что он будет расти и расти, пока не вырастет в мощный дуб, вершина которого поднимется над многими прославленными вершинами литературы.
Фурманов был настоящий революционный боец. Можно ли себе представить подлинного пролетарского писателя, который в нашу революционную эпоху не принимал бы непосредственно участия в борьбе! Но Фурманов принимал в ней самое острое участие как один из руководителей военных схваток наших со старым миром.
Это не только свидетельствует о настоящем героическом сердце, но это давало ему огромный и пламенный революционный опыт.
Замечательно то, что бросается в глаза в Фурманове и что опять-таки является характернейшей чертой того образа пролетарского писателя, который носится перед нами: он был необычайно отзывчивым на всякую действительность, — подлинный, внимательнейший реалист; он был горячий романтик, умевший без фальшивого пафоса, но необыкновенно проникновенными, полными симпатии и внутреннего волнения словами откликнуться на истинный подъем и личностей и масс. Но ни его реализм, ни его романтизм никогда ни на минуту не заставляли его отойти от его внутреннего марксистского регулятора.
Самая героическая действительность, самые хаотические впечатления не заставляют его заблудиться, не заставляют его сдаться на милость действительности, как какого-нибудь Пильняка, нет, — он доминирует над этой действительностью и от времени до времени взглядывает на марксистский компас, с которым не разлучается, и никакая романтика никогда не заставляет его опьянеть, трезвый холодок продолжает жить в его мозгу, когда сердце его пламенеет.
Он восторгается Чапаевым и чапаевцами, но он остается большевистским комиссаром при народном герое.
Вот эти-то черты Фурманова создают особенный аккорд в его произведениях. Они до такой степени аналитичны, они так умны, они такие марксистские, что некоторые близорукие люди заговаривают даже о том, будто Фурманов слишком впадает в публицистику.
Рядом с этим, в произведениях Фурманова есть внутренний огонь, никогда не растрачивающийся на фейерверки красноречия, но согревающий каждую строчку, иногда до каления, и всегда в них есть зоркий взгляд подлинного художника, влюбленного в природу и в людей, дорожащего каждой минутой, когда он может занести в памятную книжку или в книгу своей памяти какой-нибудь эскиз, какой-нибудь этюд с натуры.
Фурманов так серьезен, он так понимает, что его книги создаются не для развлечения, а для поучения и для ориентации, что он готов поставить их литературно-увлекательную сторону на второй план, а на первый план — возможно более систематическое и действенное изложение интересующего его материала.
Когда народники стояли на вершине своего пафоса и своей серьезности, они создали Глеба Успенского.
Мы знаем теперь, что Глеб Иванович чистил свои произведения от одного издания к другому. Но как он их чистил? Он убирал беллетристические элементы, он делал их суше, потому что ему казалось почти недостойным занимать читателя изюминками юмора и художественными блестками.
Конечно, мы чужды этому аскетизму. Фурманов вовсе не хотел, так сказать, выжимать, выпаривать красоту, эмоцию, жизненные образы из своих произведений. Он просто не им в первую очередь служил, не они были его целью.
Его целью была широкая ориентация — широко говорящий одновременно и уму и сердцу рапорт о событиях 1; а стиль, образы, лирика, остроумие — все это могло быть только служебным.
Однако Фурманов был и хотел быть художником. Он понимал, что в его молодых произведениях еще не достигнуто полное равновесие.
Успех его книг был огромный. Они разошлись почти в 300 000 экземпляров. Редко кто из наших классиков, самых великих, может по количеству распространенных экземпляров стать рядом с Фурмановым. Стало быть, широкий народный читатель его понял и полюбил.
Тем не менее Фурманов прекрасно знал, что ему надо еще много работать над собою.
Одно только можно сказать: никогда Фурманов не шел к художественному эффекту путем, так сказать, облегчения своей задачи, выбрасывания, в качестве балласта, своих наблюдений, не стремился поднять воздушный шар своего творчества выше ценою опустошения своего багажа. Нет, этого Фурманов не делал никогда. Он заботился о большей подъемной силе своего творчества — и он, несомненно, к ней пришел бы. Быть может, путь его был бы извилист, вел бы Фурманова от сравнительных неудач к сравнительным удачам, но он, конечно, пошел бы вверх.
Вот почему я считал Фурманова надеждой пролетарской литературы; среди прозаиков ее, где, несомненно, есть крупные фигуры, Фурманов был для меня крупнейшим 2.
«Повесть о рыжем Мотеле» *
На приятно раскрашенной художником Ротовым обложке принадлежащего мне экземпляра Иосиф Уткин написал такие строчки: