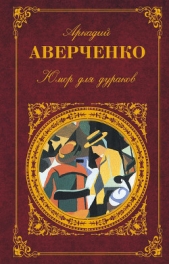Что такое литература?

Что такое литература? читать книгу онлайн
«Критики — это в большинстве случаев неудачники, которые однажды, подойдя к порогу отчаяния, нашли себе скромное тихое местечко кладбищенских сторожей. Один Бог ведает, так ли уж покойно на кладбищах, но в книгохранилищах ничуть не веселее. Кругом сплошь мертвецы: в жизни они только и делали, что писали, грехи всякого живущего с них давно смыты, да и жизни их известны по книгам, написанным о них другими мертвецами... Смущающие возмутители тишины исчезли, от них сохранились лишь гробики, расставленные по полкам вдоль стен, словно урны в колумбарии. Сам критик живет скверно, жена не воздает ему должного, сыновья неблагодарны, на исходе месяца сводить концы с концами трудно. Но у него всегда есть возможность удалиться в библиотеку, взять с полки и открыть книгу, источающую легкую затхлость погреба».
[…]
Очевидный парадокс самочувствия Сартра-критика, неприязненно развенчивавшего вроде бы то самое дело, к которому он постоянно возвращался и где всегда ощущал себя в собственной естественной стихии, прояснить несложно. Достаточно иметь в виду, что почти все выступления Сартра на этом поприще были откровенным вызовом преобладающим веяниям, самому укладу французской критики нашего столетия и ее почтенным блюстителям. Безупречно владея самыми изощренными тонкостями из накопленной ими культуры проникновения в словесную ткань, он вместе с тем смолоду еще очень многое умел сверх того. И вдобавок дерзко посягал на устои этой культуры, настаивал на ее обновлении сверху донизу.
Самарий Великовский. «Сартр — литературный критик»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда меня радует пейзаж, я прекрасно осознаю, что его создал не я. Но мне известно и то, что отношения, возникшие под моим взглядом между деревьями, листвой, землей, травой, без меня вообще не существовали бы. Я не могу понять причин целеустремленности, которую я вижу в сочетании цветов, гармонии форм и движений, вызванных ветром. Но, она есть, она здесь, перед моими глазами. Наконец, в моей власти сделать так, чтобы сущее было, только если сущее уже есть, но если я верю в.Бога, я не могу допустить никакого перехода, кроме словесного, между универсальным промыслом Божьим и конкретным видом, на который я смотрю. Считать, что он сотворил пейзаж для того, чтобы он мне понравился, или что создал меня, для того, чтобы я радовался пейзажу нельзя. Это означало бы принять вопрос за ответ. Осознанно ли сочетается эта синева с зеленым? Откуда мне это знать? Идея универсального не может гарантировать никакого личного желания, особенно в нашем случае. Зеленый цвет травы объясняется биологическими законами, конкретными факторами, географическими условиями, а синева воды объясняется глубиной реки, структурой почвы, быстротой течения. Сознательно выбрать эти краски можно было бы только задним числом. Здесь встреча двух причинных рядов, что, на первый взгляд, кажется случайностью. Целенаправленность остается проблематичной даже в лучшем случае. Все предложенные здесь отношения – лишь гипотезы. Никакая цель не воспринимается нами как императив, потому что ни одна цель не раскрывается нам, как цель, поставленная себе ее создателем.
Красота природы никогда прямо не обращается к нашей свободе. Точнее, в совокупности листвы, форм и движений есть кажущийся порядок, а значит, иллюзия призыва, который, будто, требует этой свободы, но тут же притихает под нашим взглядом. Стоит нам взглянуть на этот порядок, как призыв исчезает, мы можем по своему желанию соединить этот цвет с другим или третьим, установить связь между деревом и водой, деревом и небом или деревом, небом и водой. Моя свобода превращается в мой каприз: по мере установления новых связей, я ухожу все дальше от мнимой объективности, которая взывает ко мне: я мечтаю о некоторых мотивах, неясно навеянных вещами. Реальность природы уже только предлог для мечты.
Иногда я до глубины души огорчен тем, что этот на мгновение осознанный порядок, мне никем не был предложен, а значит, не может претендовать на истину. Тогда я фиксирую свою фантазию, переношу ее на холст, на страницы книги. В этот момент я превращаюсь в посредующее звено между бесцельной целью природы, и взглядами других людей. Я вручаю им ее, благодаря такой передаче, она становится человеческой.
Здесь искусство можно считать актом приношения дара, и один этот дар уже обеспечивает метаморфозу. Происходит нечто похожее на передачу титула и властных полномочий при матронимате, когда мать сама не является носителем имени, но остается обязательной посредницей между дядей и племянником. Если я на лету схватил иллюзию, если вручаю ее другим, освободив и передумав заново, они могут принять дар с полным доверием – иллюзия сделалась интенциональной. Автор, конечно, остается на границе субъективного и объективного и не в состоянии оценить объективный порядок дара.
Наоборот, читатель обретает все большую безопасность. Как бы далеко он ни забрался, автор проделал еще больший путь дальше. Как бы ни соотнес он между собой элементы книг – главы, страницы, слова – у него есть гарантия, что они были написаны и расположены автором определенным образом. Он даже может внушить себе, подобно Декарту, будто есть скрытый порядок в расположении не связанных между собой элементов. Творец опередил его и здесь, ведь самый прекрасный беспорядок – это художественные эффекты, которые все-таки представляют собой некую упорядоченность. Процесс чтения содержит индукцию, интерполяцию, экстраполяцию. Основание всех этих операций заложено в авторской воле, подобно тому, как научная индукция некогда считалась заложенной в воле божественной.
От первой до последней страницы нас ведет неведомая ненавязчивая сила. Это не значит, что нам просто расшифровать намерения художника. Я уже говорил, что о них мы можем только догадываться, тут играет большую роль опыт читателя. Но наши открытия подкрепляются твердой уверенностью, что красоты, увиденные нами в книге, никогда не бывают результатом только встречи. Случайно сочетаются только дерево, небо в природе. В романе -все наоборот: герои куда-то едут, оказываются в такой-то тюрьме. Если они гуляют по этому определенному саду, мы имеем дело сразу и с совпадением независимых причинных рядов (герой находился в некотором душевном состоянии, вызванном рядом психологических или общественных событий; но од– повременно он направлялся в конкретное место, и планировка города привела его в этот парк), и с проявлением более глубокой обусловленности. Ведь парк вызван к жизни для того, чтобы соответствовать определенному душевному состоянию, чтобы выразить это состояние через вещи, и сделать это наиболее рельефно. А само душевное состояние возникло в связи с пейзажем. Здесь причинная связь – только кажущаяся, ее можно назвать "беспричинной причинностью", а глубокой реальностью является обусловленность.
Но если я с полным доверием отношусь к последовательности целей, замаскированной под последовательностью причин, то это значит, что открывая книгу, я подразумеваю: объект рожден из человеческой свободы. Если бы я предполагал, что художник писал в порыве страсти и движимый ею, то мое доверие тут же испарилось бы. В этом случае поддержание последовательности причин последовательностью целей ни к чему бы не привело, потому что последняя обуславливается психологической причинностью, а тогда произведение искусства возвратилось бы в цепь детерминизма. Конечно, когда я читаю, я вполне допускаю, что автор мог быть взволнован им, и предполагаю, что первый эскиз произведения родился у него под воздействием страсти. Но само решение написать предполагает, что автор отошел от своих страстей, что он свои подчиненные эмоции сделает свободными, как это делаю я в процессе чтения. Все это означает, что он окажется на позиции великодушия.
Словом, чтение есть некое соглашение о великодушии между автором и читателем. Оба доверяют друг другу, оба рассчитывают друг на друга, и предъявляют друг к другу те же требования, что и к себе. Такое доверие уже само по себе есть великодушие: ничто не заставляет автора верить, что читатель использует свою свободу, равно как ничто не заставляет читателя верить, что автор воспользуется своей. Оба совершенно свободны в выборе решения. Поэтому становится возможным диалектическое движение туда и обратно: когда я читаю, я чего-то ожидаю; если мои ожидания оправдываются, то прочитанное позволяет мне ожидать еще большего, а это значит – требовать от автора, чтобы он предъявил ко мне самому еще большие требования. И наоборот: ожидания автора заключаются в том, чтобы я поднял уровень своих ожиданий еще выше. Выходит, что проявление моей свободы вызывает проявление свободы другого.
При этом не важно, к какому виду искусства относится эстетический объект: "реалистического" (либо претендующего на это) или "формалистического". В любом случае оказываются нарушены естественные отношения. Это только дерево на первом плане картины Сезанна, на первый взгляд, кажется продуктом причинных связей. Но здесь причинность – всего лишь иллюзия. Безусловно, она присутствует в виде пропорций, пока мы смотрим на картину. Но ее поддерживает глубинная обусловленность: если дерево находится именно здесь, то потому, что вся остальная картина обусловила появление на первом плане именно такой формы и таких красок. Так сквозь незаурядную причинность наш взгляд видит обусловленность как глубинное строение объекта, а за нею просматривается человеческая свобода как его источник и первоначальная основа. Реализм Вермеера столь откровенен, что поначалу кажется нам фотографичным. Но если реально рассмотреть осязаемость материи на его картинах, рельефность розовых кирпичных стен, богатую синеву ветки жимолости, мерцающий сумрак его интерьеров, немного оранжевый оттенок кожи на лицах его персонажей, напоминающий отполированный камень кропильницы, то полученное наслаждение вдруг доводит до нашего сознания, что все это обусловлено не столько формами или красками, сколько его материальным воображением. Формы передают субстанцию и саму плоть вещей. Общаясь с такой реальностью, мы, вероятно, максимально приближаемся к абсолютному творчеству.