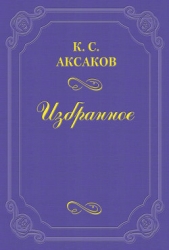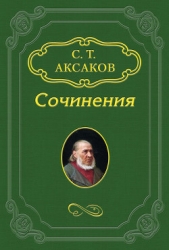В тени Гоголя

В тени Гоголя читать книгу онлайн
Книги о жизни и творчестве бывают разные. Назидательно-нравоучительные и пафосно-патетические, построенные по схеме «родился — учился — женился/не женился — умер». Или же такие, при чтении которых через пару абзацев начинаешь сомневаться, а на родном ли языке это писано, или это некое особое наречие, доступное только членам тайного братства литературоведов и филологов.
Так вот, «В тени Гоголя» совсем не такая книга. И начинается она, как и положено необычной книге, с эпилога. Собственно говоря, сразу с похорон. А в последней главе мёртвые воскресают и мы устремляемся «вперёд — к истокам!» И мы, вслед за автором, проходим путь, обратный тому, который предписан для биографии. От периода распада и превращения писателя в «живой труп» от литературы до искромётного начала, когда творчество ещё не представлялось Гоголю бременем, службой или же долгом перед народом и отечеством. Читая книгу Андрея Синявского, задумываешься о том, как писатель, стремясь к совершенству и пытаясь осмыслить каждый свой шаг, разложить свой дар на составные части, «разъяв гармонию», убивает и свой талант, и себя: «Иногда кажется, что Гоголь умирал всю свою жизнь, и это уже всем надоело. Он специализировался на этом занятии, и сравнение с погребёнными заживо вырывалось у него так часто, как если бы мысль о них неотступно его точила и мучила».
Отбросьте академические предрассудки, предполагающие, что от каждого чиха в отечественной литературе надо вдохновенно закатывать глаза и возьмитесь за «В тени Гоголя». Читайте с удовольствием, ведь главное преимущество этой книги — живой, не зашоренный взгляд на гоголевские тексты и его героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Среди этого запредельного, перевернутого вниз головою миража, с потусторонним, подводным солнцем и с подземным же морем, — неслучайно отдельным кадром выплывает русалка — образ, исполненный (не без влияния, над думать, белобоких, в ложномавританском, как Сандуновские бани, стиле, соблазнительных наложниц Брюллова) блеска, наготы, сладострастия и столь же пронзительно-острого, стереоскопического вторжения в близкое поле зрения лицом к лицу, очами в очи с нашим обомлевшим философом:
«Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему — и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось — и вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластической окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их…»
Мимолетная встреча с русалкой предваряет очную ставку с панночкой, преобразившейся с окончанием скачки в молодую красавицу в стрельчатых ресницах и с очами, полными слез. Подобное же предварение (и соответственно — сгущение) убийственных очей Вия осуществляется в заключительной сцене, где, посреди обступившей философа сволочи, вдруг возвышается фресковый, во всю стену, портрет какого-то виеобразного, глазастого скорпиона:
«Не имел духу разглядеть он их; видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, как в лесу; сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх брови…»
Но, конечно, всего драматичнее разыгрывается немой диалог, осуществляемый только очами, только средствами красноречивого взглядывания и поспешного опускания глаз, между Хомою и панночкой, лежащей в гробу, в первую ночь отчитывания усопшей (первая ночь в итоге столь напряженного состязания между мертвой ведьмой и живым человеком и кажется нам наиболее трудоемким и кошмарным испытанием Брута). Впечатление запретного, болезненного перемигивания и переглядывания, чреватого всё нарастающей тайной, опасностью и расплатой, усугубляется тем обстоятельством, что покойница-ведьма словно смотрит на Брута укоризненно и проницательно закрытыми очами (ср. в ночь скачки — вся земля, казалось, спала с открытыми глазами), тогда как, с трудом разомкнув вежды и поднявшись из гроба, она не может его разглядеть, обреченная слепоте смерти. В то же время философ своими разгоряченными взорами как будто гальванизирует труп и передает ему жизненное электричество. Воскрешение мертвеца производится путем недозволенного, соблазнительного прикосновения очами. (Вообще в этом процессе оживления мертвой царевны есть что-то нескромное, предосудительное со стороны самого Брута, который неосознанно как бы возбуждает и раззадоривает ведьму и в своем воспаленном воображении заранее с нею проделывает то, что она потом демонстрирует воочию.) Достоверность всей этой сцены подкрепляется противоестественным (и оттого наиболее действенным, натуральным для зримого нами магического сеанса) превращением спящей, как живая, красавицы в безобразного мертвеца, едва только та вылезает из гроба и пытается перейти незаконно в активное состояние жизни. Эротическое в своем истоке созерцание красоты и белизны усопшей внезапно сменяется отвращением перед вставшей на ноги падалью. Готовая разразиться слезами и лобзаниями, тоска незамедлительно разрешается взрывом ужаса при виде ожившего тела, утратившего разом весь соблазн побудившего его восстать сладострастного интереса. Эротика у Гоголя напитана трупным ядом; она пророчит и как бы уже вмещает тление; сладость споспешествует страху, который на начальной стадии раздражающе притягивает, затем чтобы вслед обратиться в какой-то кромешный кошмар… [33]
«Он подошел ко гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз:
Такая страшная, сверкающая красота!
Он отворотился и хотел отойти; но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека, особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови.
Он поспешно отошел к крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом… „Чего бояться?“ думал он между тем сам про себя. „Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит!..“ Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, и невольное чувство, казалось, шептало ему: вот, вот встанет! вот поднимется, вот выглянет из гроба!
Но тишина была мертвая. Гроб стоял неподвижно. Свечи лили целый потоп света. Страшна освещенная церковь ночью, с мертвым телом и без души людей.
Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни. Но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный вопрос: „Что, если подымется, если встанет она?“
Но гроб не шелохнулся. Хотя бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу… Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечки, или слабый, слегка хлопнувший, звук восковой капли, падавшей на пол.
„Ну, если подымется?..“
Она приподняла голову…
Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала… идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь.
Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг…
Она стала почти на самой черте; но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший. Хома не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но не видя ничего, с бешенством — что выразило ее задрожавшее лицо — обратилась в другую сторону…»
В сущности, бедою (или виною) Хомы становится его попустительство, соучастие и тайный контакт с ведьмой, которой он невольно подыгрывает, разрываясь на части между страхом и любопытством: «увидеть!» и заповедью: «не гляди!» Весь конфликт Вия, который появляется как решающий итог и финал этой внутренней борьбы, в сущности, уже налицо. Вторая ночь отчитывания, следом за первой, лишь разрабатывает дальше динамику взглядов и глаз, предваряя развязку третьей ночи. Оркестр, составленный из одних только взоров, то испуганно потупленных, то страшно уставленных, действует на сей раз с неистовой скоростью, подготавливая, с приближением Вия, гибель Хомы. Менее, чем на одной странице, говоря схематически, мы встречаем следующие разнообразные комбинации глаз и взглядов, определяющих темп и размер второй ночи:
«Он… начал читать громко, решаясь не подымать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что…Он… робко повел глазами на гроб. Сердце его захолонуло.
Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые, позеленевшие глаза… Потупив очи в книгу, стал он читать громче свои молитвы и заклятья и слышал, как труп опять ударил зубами и замахал руками, желая схватить его. Но, покосивши слегка одним глазом, у видел он, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог видеть его…Сильно у него билось во всё время сердце; зажмурив глаза, всё читал он заклятья и молитвы…
Вошедшие сменить философа нашли его едва жива. Он оперся спиною в стену и, выпучив глаза, глядел неподвижно на толкавших его козаков».