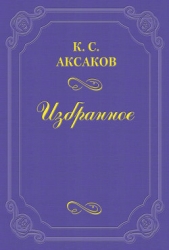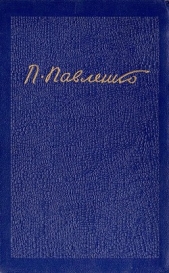Реализм Гоголя

Реализм Гоголя читать книгу онлайн
Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.
Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957). За нею должна была последовать работа о Льве Толстом.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
При всем внешнем сходстве этих печальных мыслей с гоголевскими есть в них нечто прямо противоположное тому, что сказал «Записками сумасшедшего» Гоголь. Для Одоевского все люди — сумасшедшие, и вообще где разум и где безумие — бог знает. Для Гоголя все люди — в основе нормальные, разумные создания, и лишь искажение их сущности делает их безумными. Ведь то высокое, поэтическое и народное, что неожиданно обнаружилось в сумасшедшем Поприщине, было в нем всегда, и тогда, когда оно спало в нем, во времена его «нормального» бытия.
Мысль Одоевского — о неразличимости разума и безумия. Мысль Гоголя иная. Гоголь-то очень хорошо знает, что такое разум и что такое безумие, и очень хорошо различает их; он и строит-то свою вещь на основе разума. И он обвиняет современное ему общество как раз в том, что оно разучилось отличать разумное от безумного, светлое от темного, человечное благо от античеловечного зла.
Он обвиняет общество в том, что оно не видит безумия, уродства своей собственной жизни, что оно притупило свое зрение, что оно привыкло к злу, ставшему обыденностью. Он писал в «Петербургских записках 1836 года»: «Непостижимое явление: то, что вседневно окружает нас, что неразлучно с нами, что обыкновенно, то может замечать один только глубокий, великий, необыкновенный талант». Таким талантом, конечно, Гоголь считал самого себя, и приведенные только что слова его — это своего рода программа его творчества. И еще иначе, правда гораздо позднее и в понятиях уже изменившегося Гоголя, — в письме к Погодину (начало октября 1848 года): «Езжу и отыскиваю людей, от которых можно сколько-нибудь узнать, что такое делается на нашем грешном свете. Все так странно, так дико. Какая-то нечистая сила ослепила глаза людям, и бог попустил это ослепление». В 1848 году Гоголь явно усомнился, нужно ли и можно ли открывать глаза ослепленным людям, если бог попустил это ослепление. Но Гоголь 30-х годов, Гоголь-художник, тоже думавший, что все на нашем грешном свете странно и дико, считал своим долгом именно открывать глаза людям, обнаруживать перед ними страшную истину, сбивать их с привычных позиций, показывать им окружающую их привычно-обыденную и «нормальную» жизнь как дикую, безумную и жестокую, какою она в существе своем и являлась.
Герцен очень метко сказал: «Поэзия Гоголя — это крик ужаса и стыда, который издает человек, опустившийся под влиянием пошлой жизни, когда он вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо». [92]
Задача Гоголя — и в петербургских повестях — добиться того, чтобы его читатель содрогнулся и, вместе с писателем, проникся ужасом и стыдом. Таково было стремление, такова была страстная жажда Гоголя с отроческих лет и до самых 40-х годов. Еще почти мальчиком, в провинциальном городке, напитавшись романтическими мечтаниями и откликами вольнолюбивых идей 1820-х годов, окруженный гнусным развратом александровской реакции, а затем еще более гнусным торжеством николаевской полицейщины над разгромленным декабризмом, Гоголь проникся глубочайшим убеждением в том, что люди живут плохо, неверно, что они устроили жизнь пагубно, что зло восторжествовало в жизни людей. Мало того, он, видимо, признал, что люди ослеплены злыми силами жизни, что им кажется нормальным зло, засосавшее их, и они не видят его. Видит его он, Гоголь, и он призван направить людей на путь блага, чистой и возвышенной жизни.
Так, по всей видимости, и зародилось в Гоголе странное чувство «мессианизма», столь характерное для него в течение всей его жизни, рождавшее в нем то проповеднический пафос, то злую сатиру, бывшее, конечно, своеобразным проявлением самосознания гения, а иной раз производившее на его недругов впечатление «хлестаковщины» (и сам он готов был иной раз так именно оценить это чувство).
В сущности, вся жизнь Гоголя пронизана, если даже не построена, этим чувством и стремлением: он обязан наставить людей, исправить их жизнь, заставить их содрогнуться и покаяться. Сначала он думал, что путь для этого — государственная деятельность; но государство Николая I не склонно было поручать юному мечтателю исправлять человечество. Это была первая неудача. За нею последовал ряд других. Ведь вся жизнь Гоголя — это цепь срывов и разочарований. Высокое искусство может двигать сердцами, — и Гоголь хватается за искусство: поэзия не удалась и привела лишь к крушению «Ганца Кюхельгартена»; театр не удался и обернулся лишь трагикомическим анекдотом экзамена и провала; живопись не удалась просто, без скандала. Учитель — вот звание, дающее право наставлять людей, образовывать их души и умы для истины и блага. И Гоголь берется за дело учителя. Но обучение девочек географии и истории было просто обычной профессией и вовсе не влияло на строй жизни родины и человечества, а кафедра в университете не принесла ничего, кроме разочарования. Зато удалась, и, видимо, не совсем ожиданно, проза, и, казалось на первый взгляд, — не проповедническая, светлая, шутливая проза. Затем Белинский объяснил передовым читателям, да и самому Гоголю, что именно эта «невинная» проза — повести Гоголя — как раз и несет в себе ту высокую правду, тот призыв к свету, ту поэзию, которая не удалась в стихотворной поэзии «Ганца Кюхельгартена». Итак, путь был найден. Это было в 1835 году. Уже 1836 год принес новую нравственную катастрофу — постановку «Ревизора».
Потом Гоголь говорил, что все восстали на него за «Ревизора»; по его отчаянию после премьеры судя, можно подумать, что премьера принесла ему провал пьесы. Факты говорят о другом. Комедия имела успех; публика хвалила ее; сам царь смеялся. Рептильная пресса с пеной у рта ругалась — это тоже был показатель успеха. Передовая и честная критика хвалила. А все же Гоголь воспринял постановку «Ревизора» как убийственную неудачу и так был потрясен ею, что уехал, бросил все, — и начались годы его странствий, неприкаянного существования без настоящей оседлости.
Дело, конечно, в том, что Гоголю вовсе и не нужен был «успех» как признание его таланта. В своей гениальности он был убежден непоколебимо; да и статьи Белинского, поощрение Пушкина, приверженность читателей — все это сразу же насытило его славолюбие.
Он стремился не к аплодисментам и похвалам: и те и другие оставляли его равнодушным. Он был одержим сосредоточенной жаждой реального практического дела на благо родины и человечества. Ему было нужно не признание, а существенный эффект его творчества. Он писал повести, в которых, как дважды два четыре, доказывал, что так дальше жить нельзя, что общество, окружающее его, ужасно; а слишком многие из публики видели в нем юмориста-весельчака и смеялись напропалую. Тогда он написал комедию, в которой показал убийственную картину государственной жизни страны; он думал, видимо, что публика, общество ужаснется, увидев эту картину, что он снимет катаракт с глаз общества, что люди убедятся правдой, показанной им. Не похвал хотел он, а действий: чтобы все увидевшие пьесу, бия себя в грудь, признали общую свою вину и назавтра же принялись за ум, чтобы собрались подумать, как бы избыть зло. А вышло иначе. Разговоров о пьесе был много, но говорили о пьесе, об авторе, а не о том, как исправить жизнь. Одни ругали, другие хвалили — не все ли равно, когда цель пьесы не достигнута, цель жизненная, составляющая цель жизни Гоголя. Поругали, похвалили — и поехали из театра поужинать с полным удовольствием, как это и показано в «Театральном разъезде». Этого Гоголь не мог перенести.
С этого времени его поиски осуществления своей «миссии» становятся все лихорадочней, исступленней. Ставка жизни ставится на «Мертвые души». Гоголь мечется по земле в поисках душевного покоя. Покоя нет, потому что общественная неправда преследует его повсюду. Ему кажется, что он убежит от впечатлений общественного зла в городе смерти, сна, далеко от всякой жизни — в Риме. Но и это — иллюзия, и в Риме за ним следуют по пятам встречи и впечатления, идущие из России, ради которой он только и живет и мучается.