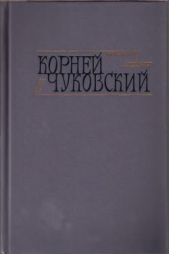Критические рассказы
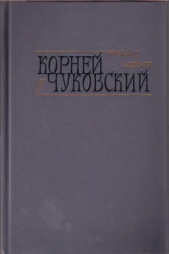
Критические рассказы читать книгу онлайн
Корней Чуковский работал во многих жанрах. Начинал он в 1901 году как критик. В разные годы выступал в печати как историк литературы, литературовед, мемуарист, переводчик, теоретик художественного перевода, лингвист, детский писатель, исследователь детской психологии. В предлагаемый двухтомник вошли его сказки для детей, статьи и книги о детях (том 1) и его критические работы (том 2).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Почему при его жизни и до самого недавнего времени даже любящим его казалось, что слова «огромный», «могучий» совершенно не вяжутся с ним? И главное: почему он сам наперекор очевидности так упорно не желал осознать свою величину?
Здесь перед нами встает одна из выразительнейших черт его личности, которой, пожалуй, не встретишь ни у какого иного писателя.
Глава вторая
…Закатил я себе нарочно непосильную задачу.
..Дрессирую себя по возможности.
Был в России строгий и придирчивый критик, который с упрямой враждебностью относился к гениальному творчеству Чехова и в течение многих лет третировал его как плохого писаку.
Даже теперь, через полвека, обидно читать его злые и дерзкие отзывы о произведениях великого мастера. «Рухлядь», «дребедень», «ерундишка», «жеваная мочалка», «канифоль с уксусом», «увесистая белиберда» — таковы были обычные его приговоры чуть ли не каждому новому произведению Чехова.
Чеховская пьеса «Иванов» еще не появлялась в печати, а уж он назвал ее «Болвановым», «поганой пьесенкой». Даже изумительная «Степь», этот — после Гоголя — единственный в мировой литературе лирический гимн бескрайним просторам России, и та названа у него «пустячком», а о ранних шедеврах Чехова, о таких, как «Злоумышленник», «Ночь перед судом», «Скорая помощь», «Произведение искусства», которые нынче вошли в литературный обиход всего мира, объявлено тем же презрительным тоном, что это рассказы «плохие и пошлые…». О «Трагике поневоле»: «паршивенькая пьеска», «старая и плоская шутка». О «Предложении»: «пресловуто-глупая пьеса…»
Замечательнее всего то, что этим жестоким и придирчивым критиком, так сердито браковавшим чуть ли не каждое творение Чехова, был он сам, Антон Павлович Чехов. Это он называл чеховские пьесы пьесенками, а чеховские рассказы — дребеденью и рухлядью.
До нас дошло около четырех с половиною тысяч его писем к родственникам, друзьям и знакомым, и характерно, что ни в одном из них он не называет своего творчества — творчеством. Ему как будто совестно применять к своей литературной работе такое пышное и величавое слово. Когда одна писательница назвала его мастером, он поспешил отшутиться от этого высокого звания:
«Почему Вы назвали меня „гордым“ мастером? Горды только индюки».
Не считая себя вправе называть свое вдохновенное писательство творчеством, он во всех своих письмах, особенно в первое десятилетие литературной работы, говорит о нем в таком нарочито пренебрежительном тоне:
«Я нацарапал… паршивенький водевильчик… пошловатенький и скучноватенький…», «Постараюсь нацарапать какую-нибудь кислятинку…», «Спасибо за Ваше доброе, ласковое письмецо… Представьте, оно застало меня за царапаньем плохонького рассказца…», «Накатал я повесть…», «Гуляючи, отмахал комедию…».
«Отмахал», «смерекал», «накатал», «нацарапал» — иначе он и не говорил о могучих и сложных процессах своего литературного творчества, шло ли дело о «Скучной истории», или о «Дуэли», или о «Ваньке», входящем ныне во все хрестоматии, или об «Именинах», написанных с толстовскою силою.
Впоследствии он отошел от такого жаргона, но по-прежнему столь же сурово отзывался о лучших своих сочинениях:
«Пьесу я кончил. Называется она так: „Чайка“. Вышло не ахти. Вообще говоря, я драматург неважный».
«Скучища, — писал он о своем рассказе „Огни“, — и так много философомудрия, что приторно…». «Перечитываю написанное и чувствую слюнотечение от тошноты: противно!».
И хотя в конце восьмидесятых годов он из всех писателей своего поколения выдвинулся на первое место, он продолжал утверждать в своих письмах, что в тогдашней русской беллетристике он, если применять к нему табель о рангах, на тридцать седьмом месте, а вообще в русском искусстве — на девяносто восьмом. Но, должно быть, и в этой цифре почудилось ему самохвальство, потому что вскоре, в письме к своему таганрогскому родственнику, он заменил ее еще более скромной. Речь зашла о композиторе Чайковском. «В Питере и в Москве он составляет теперь знаменитость № 2,— пишет Чехов. — Номером первым считается Лев Толстой, а я № 877».
Было похоже, что он с юности дал себе строгий зарок всегда и везде скрывать все тяготы своего литературного подвига и никогда ни перед кем не обнаруживать, как торжественно, сурово и требовательно относится он к своему дарованию. Один из самых глубоких писателей, он то и дело твердит о своем легкомыслии. «Из всех ныне благополучно пишущих россиян я самый легкомысленный и несерьезный», — говорит он в 1887 году в письме к Владимиру Короленко, уже после того, как им были написаны такие проникновенные произведения, как «Счастье», «Дома», «Верочка», «Недоброе дело» и многозначительный рассказ «На пути», в котором тот же Короленко нашел глубокое понимание самой сущности скитавшихся по свету «русских искателей лучшего».
Верный своей системе скрывать от других все громадное, тяжелое, важное, что связано с его литературной работой, он ни за что не хотел допустить, чтобы посторонние знали, что эта работа требует от него такого большого труда. Трудился он всегда сверх человеческих сил, но очень редко, да и то самым близким людям, говорил о том, как трудно ему бывает писать.
«Написал я повесть… возился с нею дни и ночи, пролил много пота, чуть не поглупел от напряжения… От писания заболел локоть и мерещилось в глазах черт знает что». Таких признаний у него было мало, зато всем направо и налево он твердил о своей якобы сверхъестественной лени: «Ленюсь гениально…», «Лень изумительная», «Из всех беллетристов я самый ленивый…», «В моих жилах течет ленивая хохлацкая кровь…», «Ленюсь я по-прежнему…», «Провожу дни свои в праздности…», «Я хохол, я ленив. Лень приятно опьяняет меня, как эфир…», «Хохлацкая лень берет верх над всеми моими чувствами…».
Не желая, чтобы посторонние догадывались об огромности его непосильной работы, он всегда изображал в своих письмах редкие мгновения отдыха как обычное свое состояние.
Когда в 1888 году он получил от Академии наук за свою книгу «В сумерках» премию имени Пушкина, он написал в одном письме:
«Это, должно быть, за то, что я раков ловил».
Конечно, многое объясняется здесь его беспримерною скрытностью, нежеланием вводить посторонних в свою душевную жизнь. «Около меня нет людей, которым нужна моя искренность и которые имеют право на нее», — признался он в наиболее откровенном письме. У него издавна вошло в привычку таить от большинства окружающих все, что относилось к его творческой личности, к его писательским исканиям и замыслам, и он предпочитал отшутиться, лишь бы не вводить посторонних в свой внутренний мир. Так что небрежный, иронический тон в отзывах о собственных писаниях порою служил ему для самозащиты от чужого вмешательства в его душевную жизнь.
Но чаще всего здесь проявлялось то «святое недовольство» собою, которое свойственно, кажется, одним только русским талантам.
Это недовольство собою выразилось в нем с наибольшею силою в 1887–1889 годах, когда он впервые ощутил свою славу.
Слава его была для него неожиданностью. Еще недавно он терялся в вульгарной толпе третьеразрядных писак малой прессы, всевозможных Попудогло, Билибиных, Лазаревых, «Эмилей Пупов», Кичеевых и других литературных пигмеев. Но в Петербурге к тому времени уже появились сначала одиночки, а потом целые фаланги знатоков и ценителей, которые стали все громче восхищаться его дарованием, и, когда он приехал наконец в Петербург, они, к его удивлению, встретили его такими восторгами, что даже у него, как он признавался впоследствии, «месяца два кружилась голова от хвалебного чада».
«На днях я вернулся из Питера. Купался там в славе и нюхал фимиамы».
«В Петербурге я теперь самый модный писатель», — сообщал он в письме своему провинциальному родственнику.
Эти фимиамы сулили ему прочное будущее и раньше всего полное освобождение от изнурительной бедности, которая с детства угнетала его. Еще со студенческих лет ему пришлось содержать и сестру, и брата, и мать, и отца, и теперь он мог впервые свободно вздохнуть после целого десятилетия подневольной поденщины.