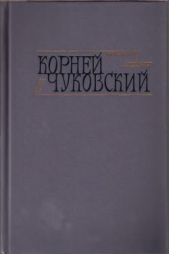Критические рассказы
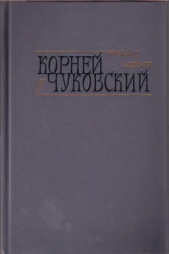
Критические рассказы читать книгу онлайн
Корней Чуковский работал во многих жанрах. Начинал он в 1901 году как критик. В разные годы выступал в печати как историк литературы, литературовед, мемуарист, переводчик, теоретик художественного перевода, лингвист, детский писатель, исследователь детской психологии. В предлагаемый двухтомник вошли его сказки для детей, статьи и книги о детях (том 1) и его критические работы (том 2).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Я готов был обнять и вместить в свою короткую жизнь все, доступное человеку. Мне хотелось и говорить, и читать, и стучать молотом где-нибудь в большом заводе, и стоять на вахте, и пахать. Меня тянуло и на Невский, и в поле, и в море — всюду, куда хватало мое воображение».
Это не беллетристика, а подлинное чеховское чувство, присущее ему во все времена. «И в самом деле мне теперь так сильно хочется всякой всячины, — писал он, например, Суворину в 1894 году, — как будто наступили зáговены. Так бы, кажется, все съел: и заграницу, и хороший роман… И какая-то сила, точно предчувствие, торопит, чтобы я спешил…». «Мне хочется жить, и куда-то тянет меня какая-то сила. Надо бы в Испанию и в Африку».
Позднее, в 1900 году, уже скованный смертельной болезнью, он говорил молодому писателю:
«Я бы на Вашем месте в Индию укатил, черт знает куда, я бы еще два факультета прошел».
И как горячо возразил он на угрюмую толстовскую притчу «Много ли человеку земли нужно?», где доказывалось, что человеку, хотя он и мечтает о захвате необъятных пространств, нужны только те три аршина, которые будут отведены для его погребения.
«Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку… — писал он в „Крыжовнике“. — Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить свои свойства и особенности своего свободного духа».
Ибо «солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды».
Как издевался он над теми писателями, которые, домоседствуя в четырех стенах, наблюдают жизнь с одного лишь Тучкова моста: лежат себе на диване, в номере, а в соседнем номере направо какая-то немка жарит на керосинке котлеты, а налево — девки стучат бутылками пива по столу. И в конце концов писатель начинает смотреть на все «с точки зрения меблированных комнат» и пишет уже «только о немке, о девках, о грязных салфетках».
Сам Чехов уже к тридцатилетнему возрасту побывал и во Владивостоке, и в Гонконге, и на Цейлоне, и в Сингапуре, и в Индии, и в Архипелаге, и в Стамбуле и еще не успел отдохнуть после этой поездки, как уже отправился в Вену, в Венецию, в Рим, в Неаполь, в Монте-Карло, в Париж.
«Ахнуть не успел, как уже невидимая сила опять влечет меня в таинственную даль».
Стоило ему просидеть хоть полгода на месте, и письма его наполнялись мечтами о новой дороге.
«Душа моя просится вширь и ввысь…»
«Мне ужасно, ужасно хочется парохода и вообще воли».
«Кажется, что если я в этом году не понюхаю палубы, то возненавижу свою усадьбу».
И при этом тысячи планов:
«У меня был Л[ев] Л[ьвович] Толстой, и мы сговорились ехать вместе в Америку».
«Все жду Ковалевского, поедем вместе в Африку».
«Поехал бы и на Принцевы острова, и в Константинополь, и опять в Индию, и на Сахалин».
«Я бы с удовольствием двинул теперь к северному полюсу, куда-нибудь на Новую Землю, на Шпицберген».
Со свойственней ему энергичной экспрессией описывал он те наслаждения, которые дает ему скитальчество:
«Проплыл я по Амуру больше тысячи верст и видел миллионы пейзажей… Право, столько видел богатства и столько получил наслаждений, что и помереть теперь не страшно».
Но его отношение к природе отнюдь не ограничивалось пассивным созерцанием ее «богатств» и «роскошен». Ему было мало художнически любоваться пейзажем, он и в пейзаж вносил свою неуклонную волю к созидательному преобразованию жизни. Никогда не мог он допустить, чтобы почва вокруг него оставалась бесплодной, и с такой страстью трудился над озеленением земли, что, глядя на него, было невозможно не вспомнить тех пылких лесоводов и садовников, которых он изобразил в своих книгах. Создавая в «Дяде Ване» образ фанатика древонасаждения Астрова, Чехов, в сущности, писал автопортрет.
Этот образ лесовода-романтика, поэтически влюбленного в деревья, был так дорог Чехову, что на протяжении нескольких лет он обращался к этому образу трижды.
Сначала — в письме к Суворину, где лесовод появляется в качестве «пейзажиста» Коровина, который в детстве посадил у себя во дворе небольшую березку. «Когда она позеленела и стала качаться от ветра, шелестеть и бросать маленькую тень, душа его [Коровина] наполнилась гордостью: он помог богу создать новую березу, он сделал так, что на земле стало одним деревом больше!».
Потом Коровин преображается в помещика Михаила Хрущова, который так любит деревья и хлопочет о спасении каждого дерева, что соседи зовут его Лешим. Этого защитника и друга лесов Чехов даже поставил в центре всей пьесы, которая так и была названа — «Леший».
В «Дяде Ване» Хрущов преображается в доктора Астрова, который говорит вслед за Лешим: «Когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что… если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я».
Все это Чехов мог бы сказать о себе, потому что в деле озеленения земли, как и во всем остальном, был неутомимо активен. Еще гимназистом он насадил у себя в Таганроге небольшой виноградник, под сенью которого любил отдыхать. А когда поселился в разоренном и обглоданном Мелихове, он посадил там около тысячи вишневых деревьев и засеял голые лесные участки елями, кленами, вязами, соснами, дубами и лиственницами — и Мелихово все зазеленело.
А через несколько лет, поселившись в Крыму, на выжженном пыльном участке, он с таким же увлечением сажает и черешни, и шелковицы, и пальмы, и кипарисы, и сирень, и крыжовник, и вишни и, по его признанию, буквально блаженствует — «так хорошо, так тепло и поэтично. Просто один восторг».
И, конечно, не раз он делится своим счастьем с другими: посылает родственникам семена в Таганрог, чтобы и те развели у себя хоть какой-нибудь сад. И дарит свои деревья соседу, чтобы и у соседа был сад.
В своей любви к деревьям и цветам он стал признаваться смолоду. Едва только вступив на литературное поприще, он начал писать «Ненужную победу» (1882), где словно пунктиром намечена заветная тема его позднейших рассказов и пьес — о диком и бессмысленном истреблении деревьев:
«Ручей должен быть под липами, — [говорит бродячий музыкант, истомленный мучительным зноем].— Вот она, одна липа! А где же еще две? Их было ровно три, когда я десять лет назад пил здесь воду… Вырубили! Бедные липочки! И они понадобились кому-то!».
«И эта редкая роскошь, — пишет он в „Драме на охоте“ два года спустя, — собранная руками дедов и отцов, это богатство больших, полных роз… было варварски заброшено и отдано во власть сорным травам, воровскому топору… Законный владелец этого добра шел рядом со мной, и ни один мускул его испитого и сытого лица не дрогнул при виде запущенности и кричащей… неряшливости, словно не он был хозяином сада. Он не заметил голых, умерших за холодную зиму деревьев».
А когда в «Дуэли» он захотел показать, как никчемно было паразитарное существование Лаевского, он раньше всего обвинил его в том, что Лаевский в родном саду «не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки».
Когда же он вздумал изобразить гуманиста, проповедующего озлобленным людям мудрое счастье безграничной любви, он вложил эту проповедь в уста садовода, проведшего с цветами всю жизнь, так как садовод показался ему наиболее достойным носителем таких светлых идей («Рассказ старшего садовника»).
В нем самом никогда не угасала потребность сеять, сажать, растить. По словам его жены, он ненавидел, чтобы в его присутствии срывали или срезали цветы. Настойчиво твердит он в своих письмах, что садоводство — его любимое дело. «Мне кажется, — пишет он Меньшикову в 1900 году, — что я, если бы не литература, мог бы быть садовником».
И своей жене через год:
«Дуся моя, если бы я теперь бросил литературу и сделался садовником, то это было бы очень хорошо, это прибавило бы мне лет десять жизни».
И обращается с шутливым вопросом к одному члену таганрогской управы, нельзя ли дать ему место садовника в городском саду Таганрога.