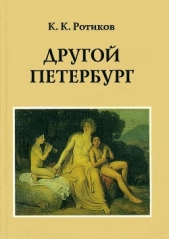Достоевский: призраки, фобии, химеры (заметки читателя).

Достоевский: призраки, фобии, химеры (заметки читателя). читать книгу онлайн
Книга посвящена малоизученным сторонам жизни Федора Михайловича Достоевского (1821–1881) и является попыткой автора ответить на вопрос: как повлияло на творчество, публицистику, образ мыслей и поведение писателя тяжелое хроническое заболевание головного мозга, которым он страдал с юности и до своих последних дней. Анализируются переписка, дневниковые и черновые записи, а также некоторые публицистические и художественные тексты Ф. М. Достоевского. На обложке воспроизведены рисунки Ф. М. Достоевского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Разговор этот я передаю буквально. Человек этот принадлежит к молодым прогрессистам, впрочем, кажется, держит себя от всех в стороне. В каких-то шпицов, ворчиливых и брезгливых они за границей обращаются».
Даже в этом кратком, но весьма энергичном тексте можно заметить, в какую высокую степень раздражения привела Достоевского эта встреча. И среди всего прочего он упоминает брезгливость, надо полагать, ко всему русскому этого влюбленного в Европу «молодого прогрессиста». И не исключено, что вместо того, чтобы «сказать гусака» этому типу и, сохраняя еще в памяти недавнее посещение русской бани в Берлине, где он был проездом и где, возможно, получил вполне конкретное предложение «побаловаться с девочкой», он сконструировал шокирующий рассказ о совращении малолетней в бане, определив себя главным действующим лицом в этом деянии, и, как видим, добился ожидаемого результата: Висковатов спустя почти сорок лет все еще не мог забыть его рассказа.
В то же время, наряду со Ставрогиным, чей грех был в значительной мере преступным экспериментом, чем следствием непреодолимой страсти, в творениях Достоевского присутствуют и явные педофилы — Свидригайлов и Трусоцкий, что свидетельствует о повышенном писательском интересе к этим извращениям. Некоторую ясность в этот вопрос вносит рассказ Достоевского, записанный З. Трубецкой: «Самый ужасный, самый страшный грех — изнасиловать ребенка. Отнять жизнь — это ужасно, — говорил Достоевский, — но отнять веру в красоту любви — еще более страшное преступление». И Достоевский рассказал эпизод из своего детства. Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, рассказывал Достоевский, где мой отец был врачом, я играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это был хрупкий, грациозный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: «Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!» И вот какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, рассказывал Достоевский, меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Всю жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может, и этим страшным преступлением я казнил Ставрогина в «Бесах».
(Отметим однако, что ни о каком «изнасиловании» речь в «исповеди Ставрогина» не идет, так как Матреша сделала шаг навстречу ласкающему ее мужчине.)
Оценить влияние детских потрясений на личность и на всю последующую жизнь индивидуума — одна из элементарных задач, решаемых средствами психоанализа. Особенно когда речь идет о пережитом или увиденном сексуальном насилии, да и насилии над личностью вообще, которого в русском быту тех времен, обильно оснащенном розгами, было предостаточно. Тем более что эти детские воспоминания «закреплялись» пережитыми в зрелом возрасте ожиданием казни и даже просто созерцанием «телесных наказаний» в остроге и в армии, и болезненное воображение порождало кошмарные сны, жестокие и мазохистские картины. Один из таких кошмаров описан Достоевским в письме Анне Григорьевне от 23.07.1873 г. из Петербурга: «…видел во сне, что Лиля сиротка и попала к какой-то мучительнице и та ее засекла розгами, большими солдатскими, так что я уже застал ее на последнем издыхании», а картины насилия и даже наслаждения чужими страданиями часто появляются в его произведениях. Примером тому — та же «исповедь Ставрогина», где «герой» сначала с интересом наблюдает, как секут девочку «до рубцов», а затем с изуверским наслаждением следит за ее приготовлениями к самоубийству. К последствиям этих потрясений, вероятно, следует отнести и непреодолимое, чисто мазохистское желание Достоевского своими глазами увидеть казнь Млодецкого. Исполнить это желание ему не помешали даже тяжкие последствия припадка эпилепсии, случившегося за двое суток до этого события.
Вообще говоря, о некоем действительном или мнимом преступлении Достоевского было каким-то образом известно множеству людей (кроме Анны Григорьевны, узнавшей об этих слухах лишь после публикации письма Страхова Толстому). Об этом свидетельствуют, например, слова Чехова, записанные Б. Лазаревским:
«— Однажды Достоевский сделал гадость, почти преступление, и сейчас же пошел к Тургеневу и подробно рассказал ему об этой гадости, с единственной целью причинить боль. Ну зачем такие выходки? — с грустью проговорил Антон Павлович»,
Отметим, что воспоминания Лазаревского о Чехове, содержавшие эту фразу, были опубликованы в 1906 г., за восемь лет до того, как Анна Григорьевна стала защищать память мужа. Однако, наиболее удивительно то обстоятельство, что современники Достоевского считали его способным на преступление.
И все же, был ли «ставрогинский грех» плодом воображения писателя или следствием реально происшедшего с ним в какой-нибудь «бане», знает только Всевышний.
Теперь позволю себе небольшое отступление от основной темы этих очерков: когда я перечитывал во время работы над ними «исповедь Ставрогина», в ее тексте я вдруг почувствовал присутствие набоковской «Лолиты». И сама форма «исповеди» напомнила мне об исповеди Гумберта Гумберта, и в сцене неожиданного пробуждения женственности в Матреше в ответ на мужские ласки. Если, взяв эту сцену за основу, присоединить к ней возможный даже в России предшествующий сексуальный опыт девочки и последующее развитие событий, обусловленное наличием этого опыта, то Матреша превратится в Лолиту. Я, может быть, наспех просмотрел доступную мне литературу о Набокове, чтобы убедиться, что не у одного меня возникло подобное впечатление, и вскоре обнаружил присутствие Достоевской Матреши в давней статье Нины Берберовой о «Лолите» («Новый журнал». Нью-Йорк, 1959). Однако Берберова приводит упомянутую выше сцену из «исповеди Ставрогина» лишь в доказательство того, что тема возможной «ответности» девочек на взрослые ласки, тема «нимфеток» не была изобретена Набоковым.
Говоря о моих библиографических поисках, нельзя не упомянуть и одно довольно пространное эссе Станислава Лема о «Лолите», опубликованное более сорока лет назад («Twozczosc», 1962, № 8), в названии которого присутствует Ставрогин («Лолита, или Ставрогин и Беатриче»). Однако Лем в своем очерке усматривает тематическую связь «Лолиты» с предсмертным сном Свидригайлова, вызванным его страстной мечтой о чувственной инициативе, исходящей от соблазненной им девочки, а не с исповедью Ставрогина, где эта инициатива реализуется наяву. При этом создается впечатление, что главу «У Тихона» Лем вообще не читал, поскольку пишет, что совращение малолетних Достоевскому представлялось грехом, прощение которого невозможно и недопустимо, в то время как Тихон от имени писателя указывал Ставрогину возможный путь искупления и прощения. Подобострастие же, с которым в этом эссе говорится о «глубоком» Достоевском в сравнении с «мелким» Набоковым, свидетельствует о том, что длинный список «благодарных евреев европейского звания», видевших в Достоевском несокрушимый оплот общечеловеческой морали и нравственности, пополнился именем покойного Станислава Лема.
Зная о том, что Набоков скорее бы умер, чем сам признал бы какое-либо влияние Достоевского на свое творчество (символично и то, что «дрянной и гадкий» для Достоевского Веве стал местом, где тело Набокова обратилось в прах, и душа его возвратилась к Всевышнему, Который ее дал), я все же почти уверен, что «Лолиту» и «исповедь Ставрогина» соединяет не только сходство тем. («Почти», потому что прообразом Лолиты могла быть и первая нимфетка в русской литературе Дуня Вырина.) Рассказывая об истории своего романа, Набоков вспоминает о нескольких неудачных попытках справиться с этой темой до 1940 г. и в 40-х годах, и лишь в середине пятидесятых, когда повествование о «нимфетках» приобрело форму исповеди, пришло окончательное решение, и миру явилась «Лолита». Что же произошло между концом тридцатых и серединой пятидесятых годов в жизни Набокова из того, что могло иметь отношение к «Лолите»? В мае 1940 г. Набоков прибыл в Соединенные Штаты и перед ним встал вопрос о хлебе насущном, и одной из приемлемых для себя форм обретения средств к существованию он посчитал преподавание русской литературы. Профессорское место ему вскоре получить удалось, и он занялся составлением лекций для своего курса, который ему предстояло читать восемнадцать «американских лет». Эта работа требовала постоянного общения с русским классическим литературным наследием, результатом которого и стали его «Лекции по русской литературе». В посвященном Достоевскому разделе этой книги присутствует роман «Бесы», но ни единым словом не упоминается глава «У Тихона», однако вряд ли Набоков ее опускал, перечитывая этот роман при подготовке лекций, и сохранившаяся в его подсознании «исповедь Ставрогина» помимо его воли могла повлиять на окончательную форму «Лолиты» и на некоторые особенности сюжета. Но это, конечно, всего лишь моя версия, а тем, кто сомневается в ее вероятности и в самой возможности возникновения нового творческого шедевра из нескольких строк чужого текста, я напомню, что знаменитая притча Франца Кафки «Превращение» возникла из одной фразы Достоевского: «Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым» («Записки из подполья»).